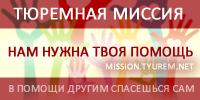Распахнулась железная дверь и перед моим взором предстала ужасная картина: семиместная камера, размерами пять на два с половиной метра, с желтыми от никотина стенами, а в ней полуголая братия, человек двадцать-двадцать пять. Малолетки курили, как перед «вышаком», бледно-синий туман застилал всю камеру от пола до самого потолка и сдавливал грудь. Меня поразило и то, что только два человека сидели на шконках, а остальные находились на полу, – кто лежал, кто сидел. В голове тут же мелькнула мысль, – «Это же «опущенные». Ведь только они живут на полу»! Из тех двоих, что сидели на шконках, оказались малолетка и батёк. Последний обладал внушительными габаритами и примечательным страшным лицом, изрытым оспой. Его облик можно смело сравнить с боксёром Николаем Валуевым. Малолетка имел заурядную внешность, но с большим количеством прыщей на лице, и был примерно моего возраста. «Неужели я попал в петушиную хату? – подумал я с ужасом. – Но мне же говорили, что на «малолетке» нет таких камер, тогда почему народ здесь живёт на полу? Что же здесь происходит? Неужели батек здесь лютует и опускает всех подряд? О, Господи, куда я попал?» – Я сделал несколько шагов вперёд, переступая аккуратно тела и остановился в центре обнажённого скопища.
– Всем привет! – сказал я громко.
– Ну, здорово! – ответил трубным голосом батёк.
– Я из шестой камеры.
– Кто по жизни? – отрезал вопросом бугай.
– «Трамвай», – ответил я.
– Вечный «трамвай», – смеясь, добавил он. – Я тебя спрашиваю – порядочный ты или нет?
– Да, порядочный! – ответил я твёрдо.
– Ну, если порядочный, тогда проходи. А ты, Серёга, чифирку завари, – обратился он к малолетке.
–Меня Стас зовут.
– А я – Слон, – протянул он свою здоровенную руку.
– А погоняло у тебя соответствующее! Я имею ввиду внешность, – старался я не падать духом и перейти на дружеский тон.
– Это так. Бог меня здоровьем не обидел, – сказал он протяжно, и при этом щёлкнул суставами пальцев.
– Тут вот какое дело…, – начал я в нерешительности. – В общем, чтобы недоразумений потом не возникло, я хочу признаться, что сегодня избил трёх человек из шестой камеры. И, наверное, после этого меня объявят «восставшим трамваем».
– А за что побил-то? – улыбнулся Слон. – Что, малолетки допекли?
– Да, допекли. Не выдержал я их приколов. Ну и батьку заодно перепало, – заглядывая в страшное лицо бугая, робко добавил я.
– Ну и молодец! Красавчик! Я эту мразь из шестёрки знаю. Ее давно пора за волосы и об угол, – сжал он крепко кулаки.
– А мне-то сейчас как быть?
– Ты про «жили-были» спрашиваешь что ли? – нахмурился Слон.
– Да, про это.
– Расслабься и получи удовольствие, – ухмыльнулся он. – Мне совсем не интересны ваши малолетские дела. Я уже ими сыт по горло! У меня в камере нет ни «трамвайки», ни другой дряни! Смотри, сколько клоунов на полу валяется, это мне их посписали из других камер. Каких только «мастей» среди них нет, голова идёт кругом! Процентов девяносто из малолеток – это опущенные или ещё какой-нибудь «масти», – он отпил два больших глотка чифира из железной кружки и, чуть поморщившись, с досадой добавил. – Очень много поломанных судеб на «малолетке». И как им дальше с этим жить, не знаю?!
– Хорошо, что у тебя в камере так поставлено. А то я уже устал от этой дебильной «трамвайки», – тяжело вздохнув, пригубил я горький чай. – Знаешь, а я думал все батьки поддерживают на малолетке беспредел.
– Все, да я исключение! – произнёс он гордо.
– А зачем ты в батьки тогда пошёл? – дул я на горячий терпкий чай и косился на него.
– А я и сам на этот вопрос ответить не могу. Все срока порядочно отсидел, а когда по новой заехал, чувствую жизнь блатная опостыла. На свободе ведь за ум взялся, женой обзавелся, сын родился. Вот и прикинул для себя, что досрочно могу освободиться, если при тюрьме останусь.
– Получается, чтобы досрочно освободиться ты и пошёл в батьки?
– Получается, что да! Но вот чувствую себя гадко, не в своей тарелке. – Слон пил чифир жадно, но с расстановкой, смакуя каждый глоток. Как и многие заядлые чифиристы, он сопел и кряхтел, хлебая с аппетитом этот тюремный напиток. Лоб у него вспотел, глаза разгорелись. Пошла вторая кружка.
– Чётки у тебя славные, – сказал он, передавая мне чифирбак. – Козырные!
– Мне они тоже нравятся. Друг подарил! Салагой дразнят, – сказал я гордо.
– Санька что ли? Знаю, знаю его. Истинный бродяга. Человек с принципами, таких сейчас днём с огнём не сыщешь.
Мне было очень приятно, что о нём так лестно отзываются. Гордость прямо распирала мое молодое тщеславие оттого, что я всем мог сказать, что Саня – истинный бродяга и он мой друг.
– А ты его откуда знаешь? – спросил я у Слона с оживлённым любопытством.
– В «крытой» с ним был в Чистополе. Ну, а потом в одном лагере сидели. Помню случай, был на лесоповале. Уже зима наступала, кое-где снежок лежал. Менты гнали мужиков на работу лес валить, а теплые вещи не выдали. Так работяги и поехали один за другим на больницу, кто с отмороженными руками, кто ногами, а кто и с воспалением легких. Саня замутил бунт и его за это мусора в изолятор упекли.
Сидели мы, значит, с ним вдвоем в одной хате. Открывается дверь, и заходят – начальник колонии, а с ним какой-то «ферзь» из управления в каракулевой шапке. Бунт пару дней назад погасили. Мужиков гонят на работу, а теплые вещи так и не выдали. Вот, видно по этому поводу и приехал «ревизор» понюхать обстановку. Ну, я встал, поздоровался, а Саня так и продолжал лежать.
«Ревизор» ему и говорит: «Вы почему лежите, осужденный? Перед вами два офицера стоят?». А Санёк ему: «Так и мы «хоть не богаты, да носы горбаты». Типа, ну и пусть, что вы офицеры, да и я не из простых, тоже благородных кровей буду, – возбужденно пояснил Слон. – Ну, ты же знаешь, как он говорит-то метко, прям «не в бровь, а в глаз». Короче, генерал этот как закричит: «Встать!»
А Саня ему спокойно: «Как мужиков оденете, так и встану. Хоть перед тобой, хоть перед твоим прихвостнем». «Как ты назвал начальника колонии?» – заблажил тот. Я аж башку в плечи вжал, думаю, ну всё, щас начнётся расколбас. «Я говорю, хоть и «стара попова собака, да батькой ведь ее не назовешь!» – Санек заржал, и опять как выдал в эфир, – да и про тебя говорят «от свиньи визгу много, а шерсти нет». А не пойти ли тебе на х.., генерал!»
– Мне аж дурно в тот момент стало, думал точно убьют. Но и Саню понять можно, как он страдал и сколько «горя мыкал», так любой уж на его месте умом тронулся. Сколько у него крови легавые выпили!
Слон замолчал, глядя отупевшим и каким-то испуганным взглядом в стену.
– И что дальше? – спросил я его, заинтригованный рассказам.
– Да что дальше…, – тяжело выдохнул Слон и, в задумчивости почесав затылок, продолжил. – Били нас три дня, как резиновых, думал дух испущу. Прости меня, Господи!- перекрестился он.- Потом мне БУРа полгода дали, а Салагу на год в психушку упекли. Там его чуть до смерти не закололи. Вот такие дела! Да, я к чему рассказываю тебе все это? – встрепенулся он. – Ты только представь, у человека духа сколько! Для него нет авторитетов, кроме Бога и матери. Правду любому в глаза скажет, заискивать не будет, это сто пудово. А если на принцип пошел, то все, – не свернет! Ему ведь в той ситуации для себя-то ничего не нужно было, он мне так и говорил: «За мужиков душа болит! Мужика затюкали со всех сторон, аж смотреть больно. С одной стороны легавые с другой блатные, вот и попал наш мужик, как «рейтузы между булок». Вот такие дела, браток.
Я представил себя на месте Салаги, и решил, что в той ситуации моего духа точно бы не хватило, какие бы высокие принципы или убеждения я не отстаивал. Остаток дня прошел в рассказах и многочисленных воспоминаниях лагерной жизни, которыми до краев была наполнена память Слона. Он травил байки, и я от души смеялся. Учил жизни, и я все старательно запоминал, впитывая услышанное, как губка.
После отбоя я еще долго не мог уснуть, терзаемый совестью. «Зря я так жестоко с ребятами обошелся! – укорял я себя, – Батек, конечно, своё заслужил. Он осознанно выбрал такую жизнь и по своей натуре неисправимая скотина. Но Кислый с Татарином – слепые котята. Они переняли такое поведение как образец, когда еще были «трамваями» и сейчас унижают других, считая это нормой. Получается, я пошел на поводу своих инстинктов и эмоций, забыв о своих убеждениях, которые еще недавно пылко проповедовал Татьяне. Эти двое малолеток из неблагополучных семей, которые слаще морковки ничего не видели в своей жизни. У них нет даже необходимого образования и воспитания, поэтому они и действуют в узких, примитивных рамках, которые они усвоили в своей жалкой среде. Ведь если горлышко у тюбика зубной пасты имеет круглую форму, то и выдавливаемая паста будет круглой».
Угрызения совести всё больше и больше распекали меня. Задыхаясь от негодования, я продолжал рассуждать. «Если и бить кого-то по роже, то тех, кто их такими сделал. Правильно говорил писатель «Отвечая злом на зло, мы только увеличиваем его». Все мы горласты, лежа на печи, а на поле брани забываем о своих теориях, и готовы ухватиться за любое знамя, лишь бы спасти свою шкуру. И, что хуже всего, всегда находим оправдания нашим вероломным поступкам, с помощью нашего изворотливого ума, – вот он «змей искуситель». Пусть эта ситуация будет мне уроком, из которого я должен уяснить, что я лицемер, – двуликий Янус, который думает и проповедует одно, а делает другое. Нет во мне еще твердости и силы духа, чтобы поступать сообразно со своими убеждениями, чтобы наконец-то определиться в жизни и быть в ладу с самим собой».
Самобичевание продолжалось до тех пор, пока я не почувствовал душевное опустошение, а затем и усталость. Вскоре веки сомкнулись, и я уснул.