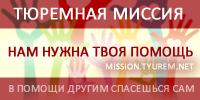ГЛАВА IV
Покуда в темнице царил ужас, начавшийся вслед за открытием приготовлений к побегу. И ни на секунду в эти вечные часы ожидания меня не оставляло сознание, что и мне придется последовать за этими каторжниками, претерпеть инквизиционные пытки, какие они претерпели, и вернуться обратно развалиной, которую бросят на каменный пол моей каменной, с чугунной дверью, темницы. Вот они явились за мной. Грубо и безжалостно, осыпая меня ударами и бранью, они увели меня - и я очутился перед капитаном Джэми и смотрителем Этертоном, окруженными полдюжиной подкупленных на выколоченные налогами деньги зверей, носящих название сторожей и готовых исполнить любой приказ начальства. Но их услуги не понадобились. - Садись! - сказал мне смотритель Этертон, указав на огромный деревянный стул. И вот я, избитый, окровавленный, не получивший глотка воды за долгую ночь и день, полумертвый от голода, от побоев, последовавших за пятью днями карцера и восемьюдесятью часами смирительной рубашки, подавленный сознанием бедственности человеческого удела, охваченный страхом, что со мной произойдет то же, что произошло с остальными, - я, шатающийся обломок человека и бывший профессор агрономии, - я отказался принять приглашение сесть. Смотритель Этертон был крупный и очень сильный мужчина. Рука его молниеносно упала на мое плечо. В его руках я был соломинкой. Он поднял меня с полу и швырнул на стул. - А теперь, - промолвил он, пока я задыхался и душил в себе крики боли, - расскажи мне всю правду, Стэндинг. Выплюнь всю правду - всю, как есть, иначе... ты знаешь, что с тобой будет! - Я ничего не знаю о том, что случилось... - начал я. Только это я и успел вымолвить. С рычанием он бросился на меня одним скачком. Опять он поднял меня в воздух и с треском обрушил на стул. - Не дури, Стэндинг! - пригрозил он. - Сознайся во всем. Где динамит? - Я ничего не знаю ни о каком динамите, - возражал я. Я пережил в своей жизни самые разнообразные муки, но когда я о них размышляю сейчас, в покое моих последних дней, то убеждаюсь, что никакая пытка не сравнится с этой пыткой стулом, Своим телом я превратил стул в уродливую пародию мебели. Принесли другой, но скоро и он оказался разломанным. Приносили все новые стулья, и допрос о динамите продолжался все в той же неизменной форме. Когда смотритель Этертон утомился, его сменил капитан Джэми, а затем сторож Моноган сменил капитана Джэми и тоже начал бросать меня на стул. И все это время только и слышалось: "Динамит! Динамит! Где динамит?.." А динамита никакого и не было. Я под конец готов был отдать чуть не всю свою бессмертную душу за несколько фунтов динамита, которые мог бы показать. Не смогу сказать, сколько стульев было разломано моим телом. Я лишался чувств бесчисленное множество раз. Наконец все слилось в один сплошной кошмар. Меня полунесли, полупихали, полутащили в мою темную камеру. Здесь, очнувшись, я увидел шпика. Это был бледный маленький арестант короткого срока, готовый на все за глоток водки. Как только я узнал его, я подполз к решетке и крикнул на весь коридор: - Со мною шпик, товарищи, Игнатий Ирвин! Держите язык за зубами! Прозвучавший хор проклятий поколебал бы мужество и более храброго человека, чем Игнатий Ирвин. Жалок он был в своем страхе, когда окружавшие его, истерзанные болью вечники, рыча, как звери, говорили, какие ужасы они ему готовят на предстоящие годы. Существуй в действительности какая-нибудь тайна, присутствие сыщика в карцере заставило бы каторжников сдерживаться. Но так как все они поклялись говорить правду, то не стеснялись перед Игнатием Ирвиным. Их больше всего озадачивал динамит, о котором они так же мало знали, как и я. Они обращались ко мне, умоляли сказать, если я что-нибудь знаю о динамите, и спасти их от дальнейших бедствий. И я мог им сказать только правду - что я ничего не знаю ни о каком динамите. Уводя сыщика, сторож проронил одну фразу, которая показала мне, как серьезно обстоит дело с динамитом. Разумеется, я об этом передал товарищам, и в результате ни одно колесо не вертелось в этот день на тюремных станках. Тысячи каторжников оставались запертыми в своих камерах, и ясно было, что ни одна из многочисленных тюремных фабрик не будет действовать до тех пор, пока не отыщется динамит, спрятанный кем-то в тюрьме. Следствие продолжалось. Каторжников по одному вытаскивали из камер и втаскивали обратно; как они передавали, смотритель Этертон и капитан Джэми, выбиваясь из сил, сменяли друг друга каждые два часа. Пока один спал, другой вел допрос. И спали они не раздеваясь, в той самой комнате, в которой один силач за другим лишались последних своих сил. Час за часом во мраке темницы продолжалось безумие нашей пытки. О, поверьте мне, повешение пустяк в сравнении с тем, как из живых людей выколачивают остатки жизни, - а они все еще продолжают жить. Я, как и все прочие, страдал от боли и жажды, но мои страдания отягощались еще сознанием страданий других. Я уже два года считался в числе неисправимых, и мои нервы и мозг стали бесчувственны к страданию. Но страшное зрелище - надломленный силач! Вокруг меня сорок силачей одновременно превратились в развалины. Крики, мольбы о воде не прекращались ни на минуту, люди сходили с ума от воя, плача, бормотанья и безумного бреда. Понимаете ли вы? Наша правда, истинная правда, которую мы говорили, была нам уликой! Раз сорок человек утверждали одно и то же с таким единодушием, смотритель Этертон и капитан Джэми могли заключить, что их свидетельство - заученная ложь, которую каждый из сорока твердит, как попугай. Перед властями их положение было столь же отчаянное, как и наше. Как я впоследствии узнал, по телеграфу был созван комитет тюремных директоров, и в тюрьму прислали две роты государственной милиции. Стояла зима, а морозы порой подносят сюрпризы даже в Калифорнии. В карцерах не было одеял. Представьте себе, как приятно лежать израненным телом на ледяных камнях! В конце концов нам дали воды. Глумясь и ругаясь, сторожа вбежали к нам, одетые в непромокаемые штаны пожарных, и стали окачивать нас из кишки час за часом, пока израненные тела не оказались вновь расшибленными ударами струй, пока мы не очутились по колено в воде, бурлившей вокруг нас и от которой мы теперь мучительно желали избавиться. Не буду больше распространяться о том, что делалось в карцерах. Скажу только мимоходом, что ни один из этих сорока вечников не пришел в свое прежнее состояние. Луиджи Полаццо навсегда лишился рассудка. Долговязый Билль Ходж медленно терял рассудок, и год спустя его тоже отправили на жительство в Аллею Беггауза. За Ходжем и Полаццо последовали другие; иные, надломленные физически, пали жертвою тюремного туберкулеза. Ровно четвертая часть этих сорока сошла в могилу в ближайшие шесть лет. Когда, после пяти лет одиночного заключения, меня вывели из Сан-Квэнтина на суд, я увидел Скайселя Джека. Видел я, собственно, мало, ибо после пяти лет, проведенных в потемках, я только жмурился да хлопал глазами, как летучая мышь. Но и то, что я увидел, заставило больно сжаться мое сердце. Я встретил Скайселя Джека, когда шел через тюремный двор. Волосы его были белы как снег. Он преждевременно одряхлел, грудь его глубоко впала, равно как и щеки. Руки болтались как парализованные, на ходу он шатался. Его глаза тоже наполнились слезами, когда он узнал меня, ибо я представлял собою жалкий обломок того, что когда-то называлось человеком. Я весил восемьдесят семь фунтов. Волосы мои, с густой проседью, невероятно отросли за пять лет, так же, как борода и усы. И я шатался на ходу, так что сторож поддерживал меня, когда я проходил залитый солнцем угол двора. Но мы с Джеком Скайселем все же узнали друг друга. Люди вроде Джека пользуются привилегиями даже в тюрьме, так что он позволил себе нарушить тюремные правила, обратившись ко мне надломленным, дрожащим голосом: - Ты славный парень, Стэндинг, - прохрипел он. - Ты никогда не фискалил. - Но ведь я ничего не знал, Джек! - прошептал я в ответ. Я шептал непроизвольно: за пять лет вынужденного молчания я почти совершенно потерял голос, - Я думаю, никакого динамита и не было. - Ладно, ладно, - хрипел он, с детским упрямством качая головой. - Береги тайну, не выдавай им! Ты молодец! Снимаю перед тобой шапку, Стэндинг: ты не фискал! Сторож увел меня прочь, и я больше не видал Скайселя Джека. Ясно было, что даже он поверил в сказку о динамите. Меня два раза приводили пред лицо комитета директоров в полном его составе. Меня то истязали, то уговаривали. Мне предложили такую альтернативу: если я отдам динамит, меня подвергнут номинальному наказанию - тридцать дней карцера, а затем сделают сторожем тюремной библиотеки; если же я буду упрямиться и не отдам динамита - меня посадят в одиночку на весь срок наказания. А так как я был пожизненно заключенный, то это значило - меня заключат в одиночку на всю жизнь. О нет, Калифорния - цивилизованная страна! В ее уголовном уложении нет такого закона! Это жестокая, невероятная кара, и ни одно современное государство не повинно в издании такого закона. Тем не менее в истории Калифорнии я - третий присужденный к пожизненной одиночке. Другие два - Джек Оппенгеймер и Эд Моррель. Я скоро расскажу вам о них, ибо гнил вместе с ними целые годы в камерах безмолвия. Добавлю к этому следующее. Скоро меня выведут и повесят - не за то, что я убил профессора Гаскелля. За это меня присудили к пожизненной тюрьме. Меня повесят потому, что я признан виновным в нападении на сторожа и в драке. А это уже нарушение тюремной дисциплины. Это закон, который можно найти в уголовном уложении. Кажется, я разбил человеку нос в кровь. Я не видел, чтобы из его носа шла кровь, - но так говорили свидетели. Его звали Серстон. Он был сторожем в Сан-Квэнтине. В нем было сто семьдесят фунтов весу, он цвел здоровьем. Я весил меньше девяноста фунтов, был слеп, как нетопырь, от долгого пребывания во мраке и настолько отвык от открытых пространств, что у меня закружилась голова при выходе из камеры. У меня, без сомнения, начиналась агорафобия, в чем я убедился в тот самый день, когда вышел из одиночки и расквасил сторожу Серстону нос. Я раскровянил ему нос, когда он преградил мне дорогу и хотел схватить. И за это меня повесят. В законах штата Калифорнии написано, что вечник, вроде меня, подлежит смертной казни, если ударит тюремного сторожа, вроде Серстона. Разбитый нос вряд ли беспокоил его больше получаса, и все же меня за это повесят... Видите ли, этот закон является в данном случае законом ex post facto, законом, имеющим обратную силу. Он не был законом в то время, когда я убил профессора Гаскелля. Он был издан после того, как меня приговорили к пожизненному заключению. И в этом вся штука: мое пожизненное заключение подвело меня под закон, еще не записанный в книге. И только благодаря своему званию пожизненного арестанта я буду повешен за побои, нанесенные сторожу Серстону. Закон явно ex post facto и поэтому неконституционен. Но что конституция для конституционных юристов, когда они желают избавиться от известного профессора Дэрреля Стэндинга! Моя казнь не устанавливает даже прецедента. Год назад, как известно всякому читавшему газеты, они повесили Джека Оппенгеймера здесь, в Фольсоме, совершенно за такой же проступок... Но только он провинился не в том, что разбил нос сторожу, - он нечаянно зарезал каторжника хлебным ножом. Как они странны - путаные законы людей, путаные тропки жизни! Я пишу эти строки в той самой камере Коридора Убийц, которую занимал Джек Оппенгеймер перед тем, как его увели и сделали с ним то, что собираются проделать надо мною... Я предупреждал вас, что мне придется писать очень много. Возвращаюсь теперь к своему повествованию. Комитет тюремных директоров предоставил мне на выбор: пост тюремного надзирателя и избавление от джутовых станков, если я выдам несуществующий динамит; пожизненное заключение в одиночке - если я откажусь его выдать. На размышление мне дали двадцать четыре часа, заключив на этот срок в смирительную рубашку. Потом меня привели в комитет. Что мне было делать? Я не мог указать им динамит, которого не существовало. Я и сказал им это; а они назвали меня лжецом. Они объявили меня неисправимым, опасным человеком, нравственным дегенератом и "злейшим преступником нашего времени". Они наговорили еще много других приятных вещей и заперли меня в одиночную камеру. Меня поместили в камеру No 1. В No 5 лежал Эд Моррель, в No 12 - Джек Оппенгеймер. Здесь он жил уже десятый год, а Эд Моррель жил в своей камере всего первый год. Он отбывал п я т и д ес я т и л е т н и й срок заключения! Джек Оппенгеймер был вечник, как и я. Казалось, нам троим предстояло долго томиться здесь. И вот прошло только шесть лет - и никого из нас нет в одиночке. Джека Оппенгеймера вздернули на веревку, Эда Морреля сделали главным надзирателем в Сан-Квэнтине, а затем он получил помилование. А я в Фольсоме дожидаюсь дня, назначенного судьею Морганом, - дня, который будет моим последним днем. Глупцы! Разве они могут удушить мое бессмертие своим неуклюжим изобретением - веревкой и виселицей? Не один раз, а бесчисленное множество раз буду я ходить по этой прекрасной земле! Я буду ходить во плоти, буду принцем и крестьянином, ученым и шутом, буду сидеть на высоком месте и стонать под колесами.
ГЛАВА V
Первые дни мне было жутко в одиночке, и часы тянулись нестерпимо долго. Время отмечалось правильною сменою сторожей и чередованием дня и ночи. День давал очень мало света, но все же это было лучше, чем непроглядная тьма ночи. В одиночке день был как светлая слизь, просачивающаяся из светлого внешнего мира. Света было слишком мало, чтобы читать. Вдобавок и читать было нечего. Можно было только лежать и думать, думать без конца. Я был пожизненно заключенный, и ясно было, что если я не сотворю чуда, не создам из ничего тридцати пяти фунтов динамита, весь остаток моей жизни протечет в этом безмолвном мраке. Постелью мне служил тонкий, прогнивший соломенный тюфяк, брошенный на пол камеры. Покровом служило тонкое и грязное одеяло. Я всегда спал очень мало, всегда мозг мой много работал. Но в одиночке устаешь от дум, и единственное спасение от них - сон. Теперь я культивировал сон, я сделал из него науку. Я научился спать по десять часов, потом по двенадцать и, наконец, по четырнадцать и пятнадцать часов в сутки; но дальше этого дело не пошло, и я поневоле вынужден был лежать без сна и думать, думать... Для деятельного ума это значит постепенно лишаться рассудка. Я изыскивал способы механически убивать часы бодрствования. Я возводил в квадрат и в куб длинные ряды цифр, сосредоточивал на этом все свое внимание и волю, я выводил самые изумительные геометрические прогрессии. Я даже отважился на квадратуру круга... И даже поверил в то, что эта невозможность может быть осуществлена. Наконец, убедившись, что я схожу с ума, я оставил квадратуру круга, хотя, уверяю вас, это для меня была большая жертва: умственные упражнения, связанные с квадратурой круга, отлично помогали мне убивать время. Путем одного воображения, закрыв глаза, я создавал шахматную доску и разыгрывал длинные партии сам с собой. Но когда я усовершенствовался в этой искусственной игре памяти, упражнения начали утомлять меня. Это были только упражнения, так как между сторонами в игре, которую ведет один и тот же игрок, не может быть настоящего состязания. Я многократно и тщательно пытался расколоть свое "я" на две отдельные личности и противопоставить одну другой, но оставался единственным игроком, и не было ни одной хитрости и стратагемы на одной стороне, которую другая сторона тотчас же не раскрывала бы. Время давило меня, время длилось бесконечно долго. Я затеял игру с мухами, которые попадали ко мне в камеру, подобно просачивающемуся в нее из внешнего мира тусклому серому свету, и убедился, что они одарены чувством игры. Так, например, лежа на полу камеры, я проводил произвольную воображаемую линию на стене, в расстоянии трех футов от пола. Когда мухи сидели на стене выше этой линии, я их оставлял в покое. Как только они спускались по стене ниже ее, я старался поймать их. Я всячески старался при этом не помять муху, и по прошествии некоторого времени они знали так же хорошо, как и я, где проходит воображаемая линия. Когда им хотелось поиграть, они спускались ниже этой линии, и часто одна какая-нибудь муха целый час занималась этой игрой. Утомившись, она садилась отдыхать в безопасном районе. Из дюжины или более мух, живших со мной, только одна не любила игры. Она упорно отказывалась играть и, узнав, какая кара ждет ее за переход запретной межи, старательно избегала опасной территории. Эта муха была угрюмое, разочарованное существо. Как выразились бы каторжники, у нее "был зуб" против мира. Она никогда не играла и с другими мухами! Это была сильная, здоровая муха, - я достаточно долго изучал ее, чтобы в этом убедиться. И ее нерасположение к игре было делом темперамента, а не физического состояния. Поверьте, я знал всех своих мух! Поразительно, какую массу отличий я в них открыл. Каждая муха являла собой вполне определенную индивидуальность - не только по размерам и приметам, по силе и быстроте полета, по характеру игры, по манере уверток, бегства, возвращения и шныряния по запрещенной зоне на стене. Они сильно отличались одна от другой еще и тончайшими нюансами темперамента и душевного склада. Среди них были нервические особы, были и флегматики. Так, одна муха, поменьше товарок ростом, приходила в настоящий восторг, когда играла со мной или подругами. Видели ли вы когда-нибудь, как жеребенок или теленок скачет по лугу, задрав хвост в необузданном восторге? И вот эта муха - мимоходом сказать, лучший игрок среди прочих, - бывало, спустившись раза три-четыре подряд в запрещенную зону и всякий раз избежав бархатных тисков моей руки, приходила в такое возбуждение и восторг, что начинала носиться вокруг моей головы с бешеной быстротой, кувыркаясь, лавируя и вертясь и все время держась в пределах узкого круга, в котором она могла торжествовать надо мной. Я так хорошо изучил мух, что мог заранее сказать, когда той или другой мухе захочется играть со мной. В одной этой области были тысячи деталей, которыми я не стану докучать вам, хотя эти детали помогали мне убивать время в первый период моего одиночества. Расскажу вам только случай, когда муха "с зубом", никогда не игравшая, в минуту рассеянности села на запрещенную территорию и тотчас же была поймана мною. Верите ли, она целый час после этого дулась на меня!.. Часы тянулись в одиночке безумно долго. Я не мог спать беспрерывно, как не мог все время убивать на игру с мухами, при всем их уме. Муха, в конце концов. не более как муха, а я был человек, с человеческим мозгом; мозг мой привык к деятельности, был начинен "культурой" и знаниями и всегда напряженно работал. А делать мне было совершенно нечего, и мысль бесплодно замирала в пустых умозрениях. Так, я вспомнил о своем определении присутствия пентозы и метилпентозы в виноградной лозе - анализ, которому я посвятил последние летние каникулы, проведенные в виноградниках Асти. Я почти довел до конца этот ряд опытов, и теперь меня страшно интересовало, продолжает ли их кто-нибудь, и если продолжает, то с каким успехом. Ведь мир умер для меня. Никакие вести извне не просачивались ко мне. Развитие науки быстро идет вперед, и меня интересовали тысячи тем. Так, например, я создал теорию гидролиза казеина трипсинолом, который профессор Уолтерс выполнил в своей лаборатории. Профессор Шлеймер работал вместе со мной над обнаружением фитостерина в смесях животных и растительных жиров. Работа, без сомнения, продолжается: каковы результаты? Одна только мысль о работе, ведущейся за тюремными стенами, в которой я не мог принять участие, о которой мне не придется даже услышать, сводила меня с ума. Мой удел был - лежать на полу камеры и играть с мухами. Нельзя сказать, чтобы в одиночке царило абсолютное безмолвие. Еще в самом начале своего заключения я часто слышал через определенные промежутки времени слабые, глухие перестукивания. Позднее мне слышались слабые и глухие удары. Эти постукивания неизменно прерывались злым ревом сторожей. Однажды, когда постукивания приняли слишком настойчивый характер, были вызваны сторожа на подмогу, и по шуму я догадался, что некоторых узников заключили в смирительные рубашки. Объяснить этот инцидент было нетрудно. Я, как всякий узник Сан-Квэнтина, знал, что в одиночке сидят еще двое - Эд Моррель и Джек Оппенгеймер. Я знал, что эти двое переговаривались посредством стуков и за это были подвергнуты наказанию. Я не сомневался, что ключ, которым они пользовались, в высшей степени прост. Однако мне пришлось потратить много часов труда, пока я открыл его. Каким несложным оказался он, когда я изучил его! А всего проще показалась мне уловка, которая больше всего и сбивала меня с толку. Заключенные не только каждый день меняли букву алфавита, с которой начинался ключ, но и меняли ее в каждом разговоре, даже среди разговора. Так, однажды я угадал начальную букву ключа и разобрал две фразы; в следующий же раз, когда они заговорили, я не понял ни единого слова. Первые фразы, понятые мною, были следующие: - Скажи - Эд - что - ты - дал - бы - сейчас - за - оберточную - бумагу - и - пачку - табаку? - спрашивал один выстукивавший. Я чуть не закричал от восторга. Вот способ сношения! Вот мне компания! Я внимательно прислушивался и разобрал следующий ответ, исходивший, по-видимому, от Эда Морреля. - Я - принял - бы - двенадцать - часов - смирительной - рубашки - за - пятицентовую - пачку... Но тут послышался грозный рев сторожа: - Прекрати эту музыку, Моррель! Профану может показаться, что с людьми, осужденными на пожизненное одиночное заключение, уже сделано самое худшее, и поэтому какой-нибудь сторож не имеет способов заставить выполнить свой приказ - прекратить перестукивание. Но ведь есть еще смирительная рубашка, остается голодная смерть, остается жажда, остается рукоприкладство! Поистине беспомощен человек, запертый в тесную клетку! Перестукивание прекратилось. Но в тот же вечер, когда оно вновь началось, я опять превратился в слух. Для каждого разговора перестукивающиеся меняли начальную букву ключа. Но я отгадывал ее, а через несколько дней опять попадался в тот же ключ. Я не стал дожидаться формального представления. - Алло! - выстукал я. - Алло, незнакомец! - простучал в ответ Моррель, а Оппенгеймер простучал: - Добро пожаловать в наш огород! Они полюбопытствовали, кто я такой, давно ли присужден к одиночке, за что присужден. Но все это я отложил до тех пор, пока не изучу их системы перемены ключа. После того как я ею овладел, мы начали беседу. Это был великий день, ибо вместо двух одиночников стало трое - хотя они приняли меня в свою компанию только после испытания. Много позже они мне рассказали, что боялись, не провокатор ли я, посаженный, чтобы впутать их в какую-нибудь историю. С Оппенгеймером уже такой казус однажды случился, и он дорого заплатил за доверие, которое оказал приспешнику смотрителя Этертона. К моему изумлению - вернее сказать, к моему восторгу, - оба мои товарища по несчастью знали меня благодаря моей репутации "неисправимого"! Даже в могилу для живых, в которой Оппенгеймер обитал уже десятый год, проникла моя слава или, вернее, известность... Мне пришлось немало рассказать им о событиях в тюрьме и о внешнем мире. Заговор сорока вечников с целью побега, поиски воображаемого динамита и вся вероломная махинация Сесиля Винвуда оказались для них совершенной новостью. По их словам, вести до них доходили через сторожей, но вот уже два месяца, как они ни от кого не слыхали ни слова. Теперешние сторожа при одиночках оказались особенно злой и мстительной бандой. Сторожа, все без исключения, ругательски ругали нас за перестукивание; но мы не могли отказаться от него. Из двух живых мертвецов стало трое; нам так много нужно было сказать друг другу, а способ сообщения был безумно медленным, и я не так был искушен в выстукивании, как мои товарищи. - Погоди, нынче вечером придет Пестролицый - он спит почти всю свою смену, и нам можно будет наговориться всласть. И говорили же мы в эту ночь! Сон бежал от моих глаз! Пестролицый Джонс был подлою и злою тварью, несмотря на свою тучность. Но мы благословляли его тучность, ибо она побуждала его дремать при первой возможности. Однако наши постоянные перестукивания нарушали его сон и раздражали его до такой степени, что он клял и бранил нас без конца. Так же бранились и другие ночные сторожа. Утром все они доложили, что ночью было много стука, и нам пришлось поплатиться за наш маленький праздник: в девять часов явился капитан Джэми с несколькими сторожами, чтобы запрятать нас в смирительную рубашку. До девяти часов утра следующего дня, ровно двадцать четыре часа подряд, мы беспомощно лежали на полу без пищи и воды и этим расплатились за нашу беседу. О, что за звери были наши сторожа! Нам самим пришлось превратиться в зверей, чтобы выжить. От грубой работы у человека делаются мозолистые руки. Жестокая стража ожесточает узников. Мы продолжали переговариваться и время от времени расплачивались смирительной рубашкой. Самой лучшей порой была ночь, и нередко, когда на стражу ставили временных караульных, нам удавалось беседовать целую смену. Для нас, живших во мраке, день и ночь сливались в одно. Спать мы могли в любое время, а перестукиваться только при случае. Мы рассказали друг другу историю своей жизни; бывало, долгие часы мы с Моррелем лежали, прислушиваясь к слабым, отдаленным выстукиваниям Оппенгеймера, который медленно рассказывал нам свою жизненную повесть, начиная с детства в трущобах Сан-Франциско, до школы наук в шайке мошенников, до знакомства со всем, что есть в мире порочного. Четырнадцатилетним мальчишкой он служил ночным вестовым в пожарной команде и через ряд краж и грабежей дошел до убийства в стенах тюрьмы. Джека Оппенгеймера называли "тигром в человеке" Юркий репортеришка изобрел это прозвище, и кличке суждено было надолго пережить человека, которому она принадлежала. Но я нашел в Джеке Оппенгеймере все основные черты человечности. Он был верный, преданный товарищ. Я знаю, что он не раз предпочел наказание доносу на товарищей. Он был мужествен, был терпелив. Он был способен к самопожертвованию, - я мог бы рассказать вам о подобном случае, но не стану отнимать у вас времени. Справедливость же была его страстью. Убийство, совершенное им в тюрьме, вызвано было исключительно его утрированным чувством справедливости. У него был недюжинный ум. Жизнь, проведенная в тюрьме, и десятилетняя одиночка не помрачили его рассудка. У Морреля, столь же превосходного товарища, также был блестящий ум. Я, которому предстоит умереть, имею право сказать без риска получить упрек в нескромности, что тремя лучшими умами Сан-Квэнтина из всех его обитателей, начиная от смотрителя, были три каторжника, гнившие в одиночках. Теперь, на закате дней моих, обозревая все, что дала мне жизнь, я прихожу к заключению, что сильные умы никогда не бывают послушными. Глупые люди, трусливые люди, не наделенные страстным духом справедливости и бесстрашия в борьбе, - такие люди дают примерных узников. Благодарю всех богов, что ни Джек Оппенгеймер, ни Моррель, ни я не были примерными узниками.
ГЛАВА VI
Дети определяют память как нечто такое, ч е м люди забывают, - и в этом определении, мне думается, немало правды. Быть умственно здоровым - значит быть способным забывать. Вечно же помнить - значит быть помешанным, одержимым. И в одиночке, где воспоминания осаждали меня беспрестанно, я старался решить главным образом одну задачу - задачу забвения. Когда я играл с мухами, или с самим собой в шахматы, или перестукивался с товарищами, я отчасти забывался. Но мне хотелось забыться вполне. Во мне жили детские воспоминания иных времен и иных мест - "разметанные облака славы", по выражению Вордсворта. Если у ребенка имелись такие воспоминания, то почему же они безвозвратно исчезли, когда он вырос и возмужал? Могла ли эта часть детской души совершенно стереться? Или же эти воспоминания об иных местах и днях все еще существуют, дремлют, замурованные в мозговых клетках, наподобие того, как я замурован в камере Сан-Квэнтина. Бывали случаи, когда люди, осужденные на вечное заключение в одиночке, выходили на свободу и вновь видели солнце. Почему же в таком случае не могли бы воскреснуть и детские воспоминания об ином мире? Но как? Мне думается - путем достижения полного забвения настоящего. Но все же - каким образом? Этим должен был заняться гипноз. Если посредством гипноза удастся усыпить сознательный дух и пробудить дух подсознательный, то дело будет сделано - все двери темницы мозга будут разбиты, и узники выйдут на солнечный свет. Так я рассуждал, а с каким результатом - вы скоро узнаете. Но прежде я хочу рассказать вам о воспоминаниях иного мира, которые я переживал еще мальчиком. И я "сиял в облаках славы", влекшихся из глубины вечности. Как всякого мальчика, меня преследовали образы существований, которые я переживал в иные времена. Все это происходило во мне в процессе моего становления, прежде чем расплавленная масса того, чем я некогда был, затвердела в форме личности, которую люди в течение последних лет называют Дэррель Стэндинг. Я расскажу вам один такой случай. Это было в Миннесоте, на старой ферме. Я тогда еще не достиг полных шести лет. В нашем доме остановился переночевать миссионер, вернувшийся в Соединенные Штаты из Китая и присланный Миссионерским Бюро собирать взносы у фермеров, Дело происходило в кухне, тотчас после ужина, когда мать помогала мне раздеться на ночь, а миссионер показывал нам фотографии видов Святой Земли. Я давным-давно забыл бы то, что собираюсь вам рассказать, если бы в моем детстве отец не рассказывал так часто этой истории своим изумленным слушателям. При виде одной из фотографий я вскрикнул и впился в нее взглядом - сперва с интересом, а потом с разочарованием. Она вдруг показалась мне ужасно знакомой, - ну, словно я на фотографии увидел бы вдруг отцовскую ригу! Потом она мне показалась совсем незнакомою. Но когда я стал опять разглядывать ее, неотвязное чувство знакомости вновь появилось в моем сознании. - Это башня Давида, - говорил миссионер моей матери. - Нет! - воскликнул я тоном глубокого убеждения. - Ты хочешь сказать, что она не так называется? - спросил миссионер, Я кивнул головой. - Как же она называется, мальчик? - Она называется... - начал я и затем смущенно добавил: - Я забыл! - У нее теперь другой вид, - продолжал я после недолгого молчания. - Прежде дома строились иначе. Тогда миссионер протянул мне и матери другую фотографию, которую разыскал в пачке. - Здесь я был шесть месяцев назад, миссис Стэндинг, - и он ткнул пальцем. - Вот это Яффские ворота, куда я входил. Они ведут прямо к башне Давида, - на картинке, куда показывает мой палец. Почти все авторитеты согласны в этом пункте. Эль-Куллах, как ее называли... Но тут я опять вмешался, указал на кучи мусора и осыпавшегося камня в левом углу фотографии. - Вот где-то здесь, - говорил я. - Евреи называли ее тем самым именем, которое вы произнесли. Но мы называли ее иначе; мы называли ее... я забыл как. - Вы только послушайте малыша! - засмеялся отец. - Можно подумать, что он был там. Я кивнул головой, ибо в ту минуту з н а л, что бывал там, хотя теперь все мне представляется совершенно иначе. Отец захохотал еще громче, миссионер же решил, что я потешаюсь над ним. Он подал мне другую фотографию. Это был угрюмый, пустынный ландшафт без деревьев и всякой растительности - какой-то мелкий овраг с пологими стенами из щебня. Приблизительно в середине его виднелась куча жалких лачуг с плоскими крышами. - Ну-ка, мальчик, что это такое? - иронически спросил миссионер. И вдруг я вспомнил название. - Самария! - в ту же секунду проговорил я. Отец мой в восхищении захлопал в ладоши, мать была озадачена моим поведением; миссионеру же, по-видимому, было досадно. - Мальчик прав! - объявил он. - Это деревушка в Самарии. Я был в ней, почему и купил фотографию. Без сомнения, мальчик уже видел такие фотографии раньше! Но отец и мать единодушно отрицали это. - Но на картинке совсем не так! - говорил я, мысленно восстанавливая в памяти ландшафт. Общий характер ландшафта и линия отдаленных холмов остались без изменения. Перемены же, которые я нашел, я называл вслух и указывал пальцем. - Дом стоял вот тут, правее, а здесь было больше деревьев, много травы, много коз. Я как сейчас вижу их перед собой, и двух мальчиков, которые пасут их. А здесь, направо, кучка людей идет за одним человеком. А здесь... - я указал на то место, где находилась моя деревня, - здесь толпа бродяг. На них нет ничего, кроме рубища. Они больные. Их лица, и руки, и ноги - все в болячках. - Он слышал эту историю в церкви или еще гденибудь - помните, исцеление прокаженных в Евангелии от Луки? - проговорил миссионер с довольной улыбкой. - Сколько же там было больных бродяг, мальчик? Уже в пять лет я умел считать до ста. Теперь я напряженно пересчитал людей и объявил: - Десять. Все они машут руками и кричат другим людям. - Но почему же они не приближаются к ним? - был вопрос. Я покачал головой: - Они стоят на местах и воют, как будто случилась беда. - Продолжай, - ободрял меня миссионер. - Что ты еще видишь? Что делает другой человек, который, как говоришь ты, шел впереди другой толпы? - Они все остановились, и он что-то говорит больным; и даже мальчишки с козами остановились посмотреть; все на них внимательно смотрят. - А еще что? - Это все. Больные люди направляются к домам. Они уже не воют, и у них не больной вид. А я все сижу на своей лошади и смотрю... Тут трое моих слушателей залились смехом. - И я взрослый человек! - сердито воскликнул я. И подо мною большое седло. - Десятерых прокаженных исцелил Христос перед тем, как прошел Иерихон на пути в Иерусалим, - пояснил миссионер моим родителям. - Мальчик видел снимки знаменитых картин в волшебном фонаре... Но ни отец, ни мать не могли припомнить, чтобы я когда-нибудь видел волшебный фонарь. - Попробуйте показать ему другую картинку, - предложил отец. - Тут все не так, - говорил я, рассматривая другую фотографию, протянутую мне миссионером. - Ничего не осталось, кроме горы и других гор. Здесь должна быть проселочная дорога. А здесь должны быть сады, и деревья, и дома за большими каменными стенами. А здесь, по ту сторону, в каменных пещерах они хоронили покойников. Видите это место? Здесь они бросали в людей камни, пока не забивали их до смерти. Я сам этого не видел, но мне рассказывали. - А гора? - спросил миссионер, указывая на середину фотографии. - Не можешь ли ты нам сказать название этой горы? Я покачал головой: - У нее не было названия. Здесь убивали людей. Я видел ее не раз. - На этот раз то, что он говорит, подтверждается крупными авторитетами, - объявил миссионер с видом полного удовлетворения. - Это гора Голгофа, Гора Черепов, называемая так потому, что она похожа на череп. Заметьте сходство! Здесь они распяли... - Он умолк и обратился ко мне. - Кого они здесь распяли, молодой ученый? Расскажи нам, что ты видишь еще? О, я видел, - по словам отца, я так таращил глаза, - но упрямо качал головой и говорил: - Я не стану вам рассказывать - вы смеетесь надо мной. Я видел, как здесь убивали многих, очень многих людей. Их прибивали гвоздями, и на это уходило очень много времени. Я видел... но я вам не расскажу. Я никогда не лгу. Спросите папу и маму - лгу ли я! Они побили бы меня, если бы я лгал. Спросите их! Больше миссионер не мог вытянуть из меня ни одного слова, хотя и соблазнял меня такими фотографиями, что у меня голова закружилась от нахлынувших воспоминаний и язык так и чесался заговорить, но я упрямо противился и выдержал характер. - Из него выйдет большой знаток Библии, - говорил миссионер отцу и матери, после того как я поцеловал их на сон грядущий и улегся спать. - Или же, с таким воображением, он сделается превосходным беллетристом! Этому пророчеству не суждено было исполниться. Я сижу теперь в Коридоре Убийц и пишу эти строки в мои последние дни - вернее, в последние дни Дэрреля Стэндинга, которого скоро выведут и швырнут в темноту на конце веревки; я пишу и улыбаюсь про себя. Я не сделался ни знатоком Библии, ни романистом. Напротив, до того как меня заперли в эту камеру молчания на целую половину десятилетия, я был как раз всем чем угодно, но только не тем, что предсказал миссионер, - экспертом по сельскому хозяйству, профессором агрономии, специалистом по науке уничтожения излишних движений, мастером практического земледелия, лабораторным ученым в области знания, где точность и учет самых микроскопических фактов составляют непременное требование. И вот я сижу в жаркое предвечерье в Коридоре Убийц, отрываясь время от времени от писания своих мемуаров, чтобы прислушиваться к ласковому жужжанию мух в дремотном воздухе и ловить отдельные фразы тихой беседы, которую ведут между собой негр Джозеф Джексон, убийца, по правую мою руку, и итальянец Бамбеччио, убийца, по левую руку. Из одной решетчатой двери в другую решетчатую дверь, мимо моей решетчатой двери, перебрасываются они рассуждениями об антисептических и других превосходных достоинствах жевательного табаку, как средства врачевания телесных ран. А я держу в своей поднятой руке вечное перо с резервуаром и вспоминаю. что в давно минувшие, стародавние времена другие мои руки держали кисточку для туши, гусиное перо и стилос; мысленно я задаю себе вопрос: а что этот миссионер, в бытность маленьким мальчиком, тоже носился по облакам света и сиял блеском межзвездных скитаний? Вернемся, однако, в мою одиночку, к моменту, когда я, изучив искусство перестукиваться, все же убедился, что часы сознания бесконечно, нестерпимо долги. Путем самогипноза, которым я научился искусно управлять, я получил возможность усыплять свое сознательное, бодрственное "я" и будить, выпускать на свободу мое подсознательное "я". Но это последнее "я" было существом, не желавшим знать никаких законов и дисциплины. Оно бессвязно, без смысла скиталось по кошмарам безумия; и лица, и события - все носило отрывочный, разрозненный характер. Мой метод механического самовнушения был весьма прост. Скрестив ноги по-турецки на моем соломенном тюфяке, я устремлял неподвижный взор на кусочек блестящей соломинки, которую перед тем прикрепил к стене моей камеры, в том месте у дверей, где падало больше всего света. Приблизив к ней глаза, я смотрел на блестящую точку, пока глаза не уставали глядеть. Одновременно с этим я сосредоточивал всю свою волю и отдавался во власть чувству головокружения, всегда овладевавшего мною под конец сеанса. Откидываясь навзничь, я закрывал глаза и без сознания падал на тюфяк. После этого, в течение получаса, или десяти минут, или часа, скажем, я беспорядочно и бестолково скитался по громадам воспоминаний о моих былых, то и дело возникавших существованиях на земле. Но места и эпохи сменялись при этом с невероятной быстротой. Впоследствии, просыпаясь, я понимал, что это я, Дэррель Стэндинг, был связующим звеном, той личностью, которая соединяла в одно все эти причудливые и уродливые моменты. Но и только. Мне ни разу не удалось вполне запомнить одно целое переживание, объединенное сознанием во времени и пространстве. Мои сны, если их можно назвать снами, были бессмысленны и нестройны. Вот образец моих грезовых скитаний. В течение пятнадцати минут подсознательного бытия я ползал и мычал в тине первобытного мира, потом сидел рядом с Гаазом, рассекая воздух двадцатого века на моноплане с газовым двигателем. Проснувшись, я вспомнил, что я, Дэррель Стэндинг во плоти, за год до моего заточения в СанКвэнтин летал с Гаазом над Тихим океаном у СантаМоники. Проснувшись, я не вспомнил о том, что ползал и мычал в древнем иле. Тем не менее после пробуждения я соображал, что каким-то образом мне все же припомнилось это далекое бытие в первобытной тине, что это действительно было мое существование в ту пору, когда я был не Дэррелем Стэндингом, а кем-то другим, ползавшим и мычавшим. Просто - одно переживание было древнее другого. Оба переживания были равно реальны, - иначе как бы я мог помнить их? О, что это было за непрерывное мелькание светлых образов и движений! На протяжении нескольких минут освобожденного подсознательного бытия я сидел в царских палатах на верхнем конце стола и на нижнем его конце, был шутом и монахом, писцом и солдатом, был владыкой над всеми и сидел на почетном месте - мне принадлежала светская власть по праву меча, толстых стен замка и численности моих бойцов; мне же принадлежала и духовная власть, ибо раболепные патеры и тучные аббаты сидели ниже меня, лакали мое вино и жрали мои яства. В холодных странах я носил, помнится, железный ошейник раба; я любил принцесс королевского дома в ароматные тропические ночи: чернокожие рабы освежали застоявшийся знойный воздух опахалами из павлиньих перьев, а издали, из-за пальм и фонтанов, доносилось рычание львов и вопли шакалов. И еще - я сидел на корточках в холодной пустыне, грея руки над костром из верблюжьего помета, или лежал в редкой тени сожженного солнцем кустарника у пересохшего родника, сгорая от жажды, а вокруг, разбросанные по солончаку, валялись кости людей и животных, уже погибших от жажды. В разное время я был морским пиратом и "браво" - наемным убийцей; ученым и отшельником. То я корпел над рукописными страницами огромных заплесневевших томов в схоластической тишине и полумраке прилепившегося к высокому утесу монастыря; а внизу, при свете угасающего дня, крестьяне трудились над виноградными лозами и оливами и пастухи гнали с пастбища блеющих коз и мычащих коров. То я предводительствовал ревущими толпами на изрытых ухабами и колеями улицах древних забытых городов. Торжественным голосом, холодным как могила, я оглашал закон, устанавливал степень вины и приговаривал к смерти людей, нарушивших закон, как ныне приговорили Дэрреля Стэндинга в Фольсомской тюрьме. С головокружительной высоты мачт, качавшихся над палубами судов, я обозревал сверкавшую на солнце поверхность моря, радужные переливы коралловых рифов, поднимавшихся из бирюзовой пучины, и направлял корабли в спасительную гладь зеркальных лагун, где приходилось бросать якорь чуть ли не у корней пальм, растущих на самом берегу. И я же дрался на забытых полях сражений более древней эпохи, когда солнце закатилось над битвой, которая не прекратилась, а продолжалась в ночные часы при мерцании звезд и пронзительном, холодном ветре, тянувшем со снеговых вершин, - но и этой стуже не удалось охладить пыл бойцов; потом я опять видел себя маленьким Дэррелем Стэндингом, босоножкой, бегающим по весенней траве фермы в Миннесоте. В морозные утра, задавая корм скотине в дымящихся животным паром стойлах, я отмораживал себе пальцы, а по воскресеньям со страхом и благоговением слушал проповеди о Новом Иерусалиме и муках адского пламени. Вот что грезилось мне, когда в одиночной камере No 1 Сан-Квэнтинской тюрьмы я доводил себя до потери сознания созерцанием блестящего кусочка соломы. Как мне могло привидеться все это? Уж конечно, я не мог построить своих видений из чего-либо, находящегося в стенах моей темницы, как не мог создать из ничего тридцать пять фунтов динамита, который так безжалостно требовали от меня капитан Джэми, смотритель Этертон и комитет тюремных директоров. Я - Дэррель Стэндинг, родившийся и воспитанный на участке земли в Миннесоте, бывший профессор агрономии, неисправимый узник Сан-Квэнтина, а в данный момент - приговоренный к смерти узник Фольсома. Из опыта Дэрреля Стэндинга я не знаю вещей, о которых пишу и которые откопал в подвалах моего подсознания. Я - Дэррель Стэндинг, рожденный в Миннесоте и которому вскоре придется умереть на веревке в Калифорнии, - конечно, никогда не любил царских дочерей в царских чертогах, не дрался кортиком на зыбких палубах кораблей, не тонул в спиртных кладовых судов, лакая водку под пьяные крики и песни матросов, в то время как корабль с треском напарывался на черные зубцы утесов и вода булькала и пузырилась сверху, снизу, с боков, отовсюду. Это все - не из опыта Дэрреля Стэндинга на этом свете. И все же я, Дэррель Стэндинг, отыскал все это в своем "я", в одиночке Сан-Квэнтина, при помощи самогипноза. Столь же незначительное отношение к опыту Дэрреля Стэндинга имело и слово Самария, сорвавшееся с моих детских уст при виде фотографии!.. Из ничего выйдет только ничто! В одиночной камере я не мог создать тридцать пять фунтов динамита. И в одиночке, из опыта Дэрреля Стэндинга, я не мог создать эти широкие и далекие видения времени и пространства. Все они находились в моей душе, и я только что начал в ней разбираться...
ОБСУДИТЬ НА НАШЕМ ФОРУМЕ | В БЛОГЕ