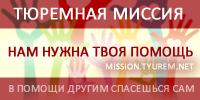Настала пора расставаться с неунывающим нашим камерным художником Сергеем Игучевым,
который нас развлекал своими художествами, и вообще замечательно оптимистично
смотрел на пребывание в тюрьме, как на нечто почти приятное. - «Отлично время
провёл, - делился впечатлениями Игучев, придя с вызова от адвоката. - Пивка выпил
банку, в боксике порукоблудствовал, покурил, и за пачуху вертухай меня отвёл по
зелёной. Классно!» Игучев так экспрессивно изобразил нотариуса, заточённого в
нашей хате, с печатью в руке, как с гранатой, на фоне решётки, что мы рисунку
радовались несколько дней, пока специальным шмоном (столкнулся с таким впервые)
не отобрали всё лишнее из бумаг арестантов; рисунка мы лишились, так как оказалось,
что изображать тюрьму в тюрьме запрещено. Нотариус был небедный, сидел на спецу
явно за бабки, никак не хотел верить, что от общака зарекаться нельзя и горой
стоял за коммунистов.
- В рот я е… Российскую педерацию, - оппонировал ему Серёга, - вместе со всеми
коммуняками.
- Что тебе плохого сделали коммунисты? - обижался нотариус. - И кстати, не педерацию,
а федерацию.
- Ты думаешь, её Федя организовал? Нет, её сделал пидер. А стало быть, - педерация.
Российская, - убедительно говорил Сергей. - Вот на общак съедешь, там узнаешь,
как арестанты коммунистов любят.
(Справедливости ради, следует отметить, что коммунистов арестанты не любят, но
терпят, и никакой опасности на этот счёт не существует).
- Что же, теперь не замечать целую часть общества и мощнейшую идеологию? - опять
обижался нотариус. - Так что ли?
- Что ты! - впадал в пафос Серёга, - я бы, будь вы у власти, полстраны обул, да
времена не те. Так что желаю здравствовать. Чтоб ваша дурь как следует цвела,
причём на практике, и не слыла абстракцией. Чтоб Ваша гомосекция была достойным
членом русской педерации.
От таких речей нотариус впадал в молчание, лез в баул (в виде новенькой дорогой
спортивной сумки) и печально конструировал высокий бутерброт.
Игучев же был за судом, на предмет мошенничества. Обул с холодильниками какую-то
фирму, провёл в Бутырке полгода, и, приехав с очередного заседания суда, потирал
руки: обвинение не клеится, есть вероятность, что уйдёт за отсиженным.
- Да ты, Игучев, волчара ещё тот. Холодильники, говоришь? Фазаны? - нёс в пространство
наш балагур. - Там, наверно, одними холодильниками не обошлось - это же Игучев!
- волчара; ведь не обошлось, а, волчара? - Игучев расплылся в довольной улыбке
и кивнул. Получил наш волчара максимум возможного в его обвинении: два. Зайдя
после суда в хату за вещами, прежде чем перейти в осуждёнку, успел поделиться
впечатлениями:
- Чёрт их знает! Всё было хорошо, а сегодня судья какие-то бумажки в деле молча
читала, башкой кивала, и вот - приговор. Вроде маляв не писал, лишнего не говорил.
Ладно, ерунда, полтора года на зоне - мелочи жизни.
- Вот как нынче судят, - сытым голосом говорил вслед уходящему балагур. - Игучеву
- можно сказать ни за что - два годишника вмонтировали!
Поздним вечером этого же дня перед тормозами затрещала, как бенгальский огонь,
свеча, отказываясь слушать очередную молитву.
Хату заказали с вещами. Пятеро с Серёгой ушли сразу. Троих увели позже. Меня повели
одного. Наверно, уже нет необходимости рассказывать читателю, какие надежды наполняют
душу арестанта в такие моменты, какие сомнения грызут его, и что его может ожидать.
Поэтому отметим лишь, что переход был в рамках того же спеца, и зашёл я в чистую
холодную камеру на пять шконок, одна из которых поджидала меня. В камере все были
некурящие, но табак терпели, никто почти не разговаривал, заботясь в основном
о том, как согреться, только камерный лидер всё рассказывал о том, как плохо в
тюрьмах за границей, как он ненавидит Данию, потому что та выдала его в Россию,
и это выглядело как часть психологической обработки меня; чтобы сразу не убежал,
выйдя из тюрьмы.
Позвали слегка. В кабинете были: Ирина Николаевна, Ионычев и - Суков. Сильно хвост
прищемило, если пришёл. На роже размером с жопу - решимость Александра Матросова;
с такой рожей и грудью амбразуру не обязательно закрывать, достаточно заглянуть
в неё.
- Начинаем следственное действие, - деловито заговорил Суков.
- Заканчиваем следственное действие, - отозвался я. - Всякое следственное действие
должно проходить в присутствии полного состава защиты. Адвокат Косуля, как я вижу,
отсутствует. Без него я не могу принять участие в следственном действии, так как
не доверяю следственной группе.
Осталось несколько дней до истечения срока содержания под стражей; если пришёл
Суков, значит, продления нет, а учитывая положение Шкуратова и инцидент с Толей,
продления вообще может не быть; значит, Суков будет искать опять формальную зацепку,
чтобы сказать, что я признался, но прошу время для детального объяснения своей
вины. Сейчас каждый день отсрочки для Сукова - вилы.
Суков:
- Так Косуля же отказывается к Вам приходить!
- Это его проблемы Я ему отвод не давал, он обязан исполнять свои обязанности.
- Значит, при полном составе защиты Вы дадите показания?
- Я этого не говорил.
- Хорошо, Алексей Николаевич, - генерал стал неожиданно добродушен. - Мы заканчиваем
следственное действие по причине отсутствия полного состава защиты. Давайте поговорим
без протокола. Дело касается освобождения Вас под залог. Мы предлагаем Вам внести
залог в размере сто тысяч долларов. Заместитель Генерального прокурора Михаил
Гадышев устно дал согласие на эту сумму.
- Исключено. Даже разговаривать не будем.
- А сколько?
- Тысяч двадцать, не больше, - я посмотрел на Ирину Николаевну.
- Что Вы, что Вы! Соглашайтесь! - торопливо заверила она. - Ваши родственники
сказали, что возьмут взаймы. Соглашайтесь!
- Нет.
- Ну, тогда пятьдесят тысяч, - мягко сказал Суков. - На меньшее Гадышев не согласится.
- Договорились.
- Но от Вас, Алексей Николаевич, потребуется ещё две вещи.
- Смотря какие.
- Первая - дать отвод Косуле.
- Отвод дам. После подписания постановления о моём освобождении.
- Но нам потребуется ещё одно следственное действие - а Вы скажете, что защита
отсутствует.
- Да, могу сказать. А могу и не сказать.
- Гадышев подпишет постановление, но к моему ходатайству надо приложить Ваше заявление
с подробным описанием по сути предъявленных обвинений.
- Этого не будет. По той причине, что суть предъявленных обвинений мне неизвестна,
а само обвинение сфальсифицировано. - Я поднял взгляд от тетради, где тщательно
отмечал всё сказанное, и посмотрел в голубые глаза генерала. «Хорошо, дедушка?»
- молча спросил я его.
- Вы не спешите, пожалуйста, не горячитесь, обсудите всё с адвокатом, а я завтра
приду.
Между прочим, это приятно, когда генералы, а особенно гестаповские, сдаются. Но,
впрочем, Россия не боится позора, и ещё долго после увольнения Сукова из Генпрокуратуры
в печати и на телевидении будут звучать голоса, что убирают лучшие кадры, чуть
ли не самого лучшего следователя по особо важным делам.
Ирина Николаевна подтвердила, что заявление с выражением моего отношения к делу
необходимо, и я его написал. По форме это была сводная жалоба на все действия
Генпрокуратуры по отношению ко мне, описано всё было подробно, бескомпромиссно,
со ссылками на статьи УПК. В другое время за такое послание мне бы организовали
очередную экзотическую хату, а теперь… А теперь или мат в два хода или героин
в кармане. Суков на следующий день пришёл. В тёмном боксике или в сортире меня
уже не выдерживали, прямиком отвели в следственный кабинет, где генерал энергично
объявил, что, по закону, он обязан дать возможность перед началом следственного
действия поговорить мне с адвокатом. Ирина Николаевна была бледна и напряжена.
Позже выяснилось, что Суков лисой увивался вокруг неё, убеждая повлиять, чтобы
я написал хоть что-нибудь, кроме обвинений в адрес следствия, хотя бы это и дела
не касалось, - а иначе ничего не будет. Прекрасно понимая, что нас слушают, Ирина
Николаевна сказала:
- Вам нужно написать хоть что-то, иначе Вас не освободят.
- Я напишу, - ответил я, а Ирина Николаевна напряглась ещё больше, не зная, в
полной ли мере я сознаю угрозу.
В подготовленном в камере заявлении не было ничего, кроме перечисления и анализа
незаконных действий Генпрокуратуры.
- Не беспокойтесь. Я воспользуюсь безотказным приёмом. Даже если меня спросят
о погоде, я отвечу, что имею сказать следующее и - изложу то, что написал, не
менее и не более. Если затем последует любой посторонний вопрос, я немедленно
откажусь от дачи показаний.
- Нужна причина.
- Она есть: я не доверяю следствию.
В кабинет вошёл Суков:
- Алексей Николаевич, мы не будем сегодня излишне формализовать нашу встречу.
Вот Вам бумага, напишите в произвольной форме всё, что Вы можете сказать, можете
пользоваться конспектами, записями - никаких ограничений, ни по форме, ни по времени.
Я стал переписывать из тетради. Суков ушёл и вернулся минут через десять:
- Дайте почитать, что Вы написали!
- Я не написал ещё и половины.
- Неважно. Общий смысл я пойму.
- Пожалуйста.
Суков впился в строчки. Глубокое разочарование, граничащее с грустью, отразилось
на лице генерала.
- Хорошо, - сказал он. - Дописывайте, сколько хотите, это уже не важно. Вот постановление
об освобождении под залог. Если он будет внесён в срок, Вас освободят.
Дело было во вторник. В воскресенье истекал срок содержания под стражей. Ирина
Николаевна больше не приходила, и что это могло означать, я не знал. Среда, четверг
и пятница прошли бредовым кошмаром. Суббота и воскресенье не в счёт, в эти дни
арестант вообще напрасно живёт на свете. Настал понедельник. Если нет продления,
должны освободить немедленно. Но - была баланда, была проверка, вертухай ударил
ключом в дверь: «Гулять!», время перевалило за девять, все стали одеваться, стал
одеваться и я, чувствуя, что сил больше нет, что сделал я всё, что мог, и, кажется,
напрасно. Последняя искра надежды догорала на дне колодца беспросветной тоски.
- Павлов! С вещами - быстро! - голос вертухая за дверью звенел от напряжения.
Что-то случилось.
- Блядь! Хоть бы на прогулку дали пойти! - вырвалось у меня, и недобрые предчувствия
нахлынули и захлестнули с головой. Сокамерники смотрели с сочувствием:
- Вот тебя по тюрьме перемещают… Матрас заберёшь?
- Нет.
- Это хорошо, что оставишь, - не находя подходящих слов, но благодарно ответили
мне. - А как же ты без матраса?
- Я обойдусь. Прощайте. Удачи.
Молодой вертухай быстро шёл впереди, я старался не отставать. По лестнице пошли
вниз (если бы вверх - это смерть).
- Знаешь, куда идёшь?
- Не знаю, но догадываюсь.
- Куда, по-твоему?
- В Генпрокуратуру. Или в Лефортово.
- На волю идёшь, - остановившись и повернувшись ко мне, сказал вертухай. Я молчал,
потому что сердце грохотало как молот, и лишь думал, что если сейчас он начнёт
меня шмонать, значит, свободы не будет, а будет героин.
- Не веришь? Вот, смотри, - и показал карточку моих перемещений по тюрьмам и камерам.
Наверху большими, много раз обведёнными буквами было написано: от .. марта СВОБОДА
под залог.
И я вот сейчас выйду отсюда на улицу? И смогу пойти домой? И никто этому не воспрепятствует?
Это было бы второе рождение, только кто в это поверит. Или сейчас что-нибудь случится,
или выйду на улицу, а мне укажут на дверь в автозэк и зачитают постановление по
случаю нового обвинения. Нет, как это ни печально, - я не верю. Что-то плохое
обязательно случится. С чем можно сравнить те переживания? Только с тем, что творилось
в душе, когда открылась для меня первая дверь Матросской Тишины. Вертухай закрыл
меня одного в глухом зелёном кубике какой-то сборки. Курить! Скорей курить, и
пусть всё будет так, как будет! Через пару часов я был готов ко всему: сойти с
ума, быть избитым, получить новое обвинение, сидеть ещё десять лет; не был только
готов сдаться. И лязгнул замок, и пошли мы куда-то. Пришли к кладовщику сдавать
вещи, сердце радостно трепыхнулось: а вдруг? Сдавать всё-таки не получать.
В кабинете дежурного помощника начальника следственного изолятора меня встретили
Ионычев и Толя. От обоих разило водярой, оба выглядели невыспавшимися и мятыми.
- Вы что, думаете, мы Вас вот так отпустим? - сказал Ионычев. - Нет! Поедем к
нам. - Толя обиженно молчал и старался на меня не смотреть. ДПНСИ выписал мне
справку об освобождении, наклеил фотографию, взял в огромную руку маленькую печать:
- Готово. Давайте приходный ордер на залог - и можете ехать.
- Приходного ордера нет, - ответил Ионычев, - он никогда не был нужен.
- А теперь нужен, - ответил ДПНСИ. - Нам пришло указание без приходного ордера
не освобождать.
И это был такой момент… Неприятный это был момент, уважаемый читатель.
Моральный облик альпинистов ничем не отличается от морального облика людей другого
рода занятий. После форменной пьянки, в апогее которой, помнится, Валера ломился
в женскую комнату и кричал девушкам, что сейчас он будет с ними играть в дочки-матери,
и будет мамой, а они его детьми, а так как детей много, а сися у мамы только одна,
то сосать её они будут по очереди, - после столь бурной пьянки нести рюкзак было
тяжело. Пока шли по ущелью от альплагеря «Адыл-Су» до ледника Кашкаташ, уже ни
на какие восхождения, будь моя воля, я бы не пошёл. Но воли не было, и, взвалив
на себя рюкзак, я медленно бросился в погоню за ушедшими вперёд товарищами, пытаясь
войти в колею; сердце работало с перебоями, как не разогретый трактор. Предстояло
восхождение на одну из самых красивых вершин Кавказа - пик Вольная Испания. Ледник
знакомый, домашний, сто раз хоженый вдоль и поперёк. Иду по краю ледника под склонами
пика Гермогенова, опасности никакой, склоны явно разгружены, накануне с них сошло
несколько крупных и множество мелких лавин, теперь несколько дней здесь можно
ходить спокойно. В одном месте виден след схода льда. Впечатляет. Лёд, высыпанный
как из рога изобилия, пробил во льду же русло глубиной метров десять. Чтобы продолжить
подъём, пришлось надеть кошки, спуститься в русло, пройти по нему выше, под скалы,
- там было легче подняться наверх. Спустившись на дно, я снял рюкзак, отложил
ледоруб, отдышался, надел каску (на всякий случай) и достал сигареты. Сел на рюкзак,
щёлкнул зажигалкой, но почему-то курить раздумал - там, наверху, покурю - и полез
вверх. Выбравшись из русла на яркое солнце, увидел товарищей, они сидели на рюкзаках
метрах в ста выше и ждали меня. Не сделал я и десятка шагов вверх, как за спиной
загудело и зашипело. Это гудела моя удача. Чёрт знает, откуда, но в русло, казалось
бы, с совершенно разгруженного висячего ледника, как из огромного брансбойта,
с напором в миллион атмосфер, била струя льда, рассыпавшегося в мелкий порошок,
так, что казалось, будто течёт вода. Лёд сыпался и сыпался, полностью закрыв русло
как могилу, а мои товарищи прыгали как обезьяны, фотографировали меня на фоне
стихии и орали, что я опять остался живой. Уже пора было и честь знать, но тут
я категорически уселся на рюкзак и закурил, не обращая внимания на призывные крики.
Ребята кричали, что из-под скалы надо уходить к ним - там уже безопасно. Но я
решил докурить. На середине сигареты послышались характерные звуки камнепада.
От радости не осталось следа: против камнепада защиты нет, и я философски наблюдал,
как белый склон с цепью следов между группой и мной покрывается чёрными пятнами
камней, ожидая, что дойдёт очередь до меня. Когда канонада стихла, я бегом преодолел
роковые сто метров и снова принимал поздравления.
- Ну, Лёха, опять косая прошла мимо, - сказал Валера. - Что-то она за тобой последнее
время охотится. Тяжело умирать будешь.
- Почему? - спросил кто-то.
- Да за жизнь упорно борется. Вон, на Короне, на пятой башне, у него зажим слетел
с верёвки, а страховки, ясное дело, никакой. Так он, падая, одной рукой за верёвку
ухватился, подтянулся и пристегнулся, - Валера комично изобразил, как я отваливаюсь
от скалы в пропасть, хватаюсь за верёвку и возвращаюсь к жизни. Насмеявшись вдоволь,
пошли дальше. У нас всё прошло хорошо, а вот на другой горе двое наших в тот же
день и в то же время погибли.
- Так что нужен ордер, - подытожил ДПНСИ.
Ионычев выдержал паузу и многозначительно произнёс:
- Там этот вопрос решён.
- Да?.. - неуверенно отозвался ДПНСИ.
- Да, - уверенно подтвердил Ионычев.
- Ну, ладно. Езжайте. Какой номер машины? Вот пропуск. - По-моему, это был тот
самый офицер, назвавший прокурора… Впрочем, может, и не он.
В бутырском тюремном дворе лежал мартовский снег, воздух был сырой и серый, будто
подступали сумерки, хотя был ещё день.
Ионычев и Толя держали меня за руки, хотя бежать в тюремном дворе бессмысленно.
Толя сел за руль белой шестёрки, а Ионычев прижал меня боком на заднем сиденье
к заблокированной дверце и собственноручно поставил мой баул, а это была небольшая
хозяйственная сумка, рядом с собой. Меня тошнило от вида и запаха этой сумки,
Ионычеву же - ничего: русский следователь грязи не боится. Задними дворами подъехали
к воротам. Из будки вышла женщина в телогрейке:
- У вас пропуск есть? Вижу, вижу - есть. Езжайте! - и бросилась открывать ворота.
- Э… а… это - пропуск, - попытался всучить бумажку тётке из окна Ионычев, но та
только рукой махнула. - Так слона отсюда можно вывезти! - пробурчал следак. В
самом деле, сюрреализм присутствовал; недобрые предчувствия оставались. Все молчали.
Город проплывал как в кино, признать его реальность было нельзя, и казалось, что
он торопится уйти в сумерки. На Садовом кольце машина заползла через подворотню
в колодезный двор, и меня завели в подъезд с вывеской «Генпрокуратура». Двор,
вывеска, подъезд, лестница - всё было обшарпанное, затрапезное и мусорское, как
и кабинет, куда завели через коридор, охраняемый на лестнице ментом с автоматом.
В кабинете меня ждала Ирина Николаевна. Пришёл генерал, хмурый, как все:
- Что вы его так рано притащили! У вас задание на целый день, могли бы и вечером
забрать - пусть бы посидел ещё. Идите сюда, Павлов! Распишитесь. Это подписка
о невыезде. Ваши перемещения допустимы только в пределах Москвы. Пятиминутное
опоздание на допрос будет расценено как уклонение. Обо всех своих перемещениях
будете сообщать в Генпрокуратуру по телефону.
Разумеется, подписку о невыезде я дал, хотя с залогом она несовместима.
«Зачем?» - спросил я потом у Ирины Николаевны.
- А затем, чтобы потом документы по залогу уничтожить, а оставить только по подписке.
- Но у меня в справке из тюрьмы написано: залог.
- А они скажут: ошибка.
Но до того ли было мне тогда. Ионычев напомнил, что я обещал начать давать показания,
если выйду на свободу, на что хватило духу ответить, что я ещё не на свободе.
Несколько простых вопросов было задано, я ответил, и, наконец, прозвучало желанное
«допрос окончен».
- Приходите завтра в девять. И будете приходить каждый рабочий день. А сегодня
мы даём Вам возможность отдохнуть.
По-прежнему не веря, но надеясь, я пошёл. - «Вас на улице ждут, - сказала Ирина
Николаевна. - Я поеду без Вас. Встретимся завтра». И я пошёл по коридору, держа
в руке свой кусок тюрьмы. Мусор с автоматом потребовал справку об освобождении
и паспорт.
- Паспорта нет.
- Тогда стоять здесь! - мусор нажал кнопку. «Вот и кончилась моя свобода, - подумал
я, с неприязнью ощутив возвращение страха. Но пришёл Ионычев и разрешил идти без
паспорта:
- У Вас ведь его точно нет?
- Точно.
- А может, где-нибудь есть?
- Не знаю. У меня нет. - Три золотых правила арестанта, да и вообще любого попавшего
в жернова правосудия, что в большом, что в малом, заключаются в принципе - не
знаю, не видел, не помню. Если, конечно, нет никакой возможности молчать вообще.
- Хорошо, идите.
Шаги по лестнице вниз, дверь подъезда, взялся за ручку, открыл - сам открыл и
- в глаза ударил свет солнца и свободы! Как будто вдруг просыпался золотой дождь,
и оркестр Поля Мориа заиграл «Шербурские зонтики». Прямо во дворе около машины
стоял улыбаясь телохранитель Володя. Что-то я говорил, кажется, большей частью,
матом. Что-то говорил он, типа того, что теперь всё будет хорошо, и можно ли посмотреть
немедленно мою тюремную тетрадь. Открыв её, ещё не сев в машину, Володя погрузился
в созерцание нарисованных схем с цифрами.
- Да это ерунда, это геометрические задачи, не имеющие решения.
- Это о многом говорит, - возразил Володя.
Наверно, встретить человека, когда он выходит из тюрьмы, - это тоже особенное
впечатление. Ну, и закурили.
- Куда едем, Алексей Николаевич?
- В машине говорить можно?
- Сейчас нет, отъедем отсюда - тогда да.
- Свободным временем располагаешь?
- Без перерывов и ограничений.
- Домой. Потом в баню.
Человеку дано описать события. Описать переживания нельзя. О них можно только
догадываться. Скажем так: это была свобода, и уйти в бега я был намерен в этот
же день.
Солнце спряталось в мутном московском небе, явившись лишь на несколько минут,
перед глазами поплыло Садовое кольцо. Оказалось, что окружающий мир очень большой,
и в нём удивительно много предметов, к которым теперь следовало привыкать; начинать
жизнь и познавать мир надо было заново. А главное, надо было уходить. Навсегда.
- Два месяца, - дипломатично начал Володя, - за нами будут следить так, что не
уйти. Через два месяца можно.
- Какие два месяца! Сегодня. Максимум завтра.
- Путь надо готовить.
- А если будет поздно.
- Если будет опасно - да, уйдём досрочно. Пока нет. Я отвечаю. Между прочим, Вы
зря мне не поверили год назад. Ничего могло не случиться. К тому же здоровье надо
поправить - куда Вас такого? Сейчас лучше всего лечь в больницу. Могу устроить.
- Не надо. Больница есть. Завтра поедем кости вправлять, - через лихорадочное
стремление уйти в бега стала проклёвываться справедливость сказанного. К тому
же в удивительном и непостижимом российском обществе встречается такое феноменальное
явление, когда человек, не занимающий никаких видных постов, неизвестный и непримечательный,
обладает фантастическими связями и имеет большие возможности, которыми почему-то
не может воспользоваться для себя. А для других - может. Володя был именно такой
феноменальной фигурой.
- Алексей Николаевич, я ничего не буду спрашивать. Мне важно одно - дело касается
семьи?
- Какой семьи? - не понял я.
- Президентской.
- А мне почём знать.
- Нет, я не о том. Вы - лично.
- Я лично не имею никакого отношения.
- Очень хорошо. Тогда пробьёмся. Остальное не важно.
Мы поехали по Москве.
У подъезда дома стояла неприметная шестёрка с мордатым водителем.
- Вот видите, это оперативник.
- Вижу.
- Так будет два месяца. Днём и ночью. Денег на технические средства для слежки
за нами никто жалеть не будет. Понимаете, что это значит? - денег истратят столько,
сколько захотят, хоть миллион, хоть сто миллионов. Поэтому лучшее, что можно сейчас
придумать - это лечиться. Вы на себя в зеркало в полный рост глядели?
- Ладно. Я на полчаса.
Дома кто-то ждал, кто-то нет. Племянник ещё в тюрьму передал просьбу, чтобы я
отписал ему квартиру: зачем она мне, всё равно я уже не выйду, а квартира может
пропасть. Но я вышел. Побывать дома - обязательно. Нужно попрощаться со всем и
со всеми. Не торопясь и навсегда. Сейчас или через два месяца - не важно; главное,
что все встречи теперь будут на другом краю земли или в другой жизни; только душа
будет время от времени наведываться в этот уголок. Как много было нам дано, но
выбор, сделанный давно, готовит неизбежный путь, назад уже не повернуть, звенит
серебряная нить, и ничего не изменить.
- Давай, Володя, в баню. Как пахнет тюрьма, ты уже знаешь, я тоже. Поехали.
Пока добрались до места, стало ясно, что в слежке участвует целый эскадрон автомобилей.
Позже выяснилось, что бандажный пояс и наручные часы всегда указывали доблестным
сыскарям моё точное местонахождение, несмотря на то, что способы использования
этих предметов могли существенно повлиять на моё здоровье; что делать - технический
прогресс и государственная необходимость - и я не избавлялся от этих предметов,
приберегая этот ход на потом.
Ночь застала нас в одном из московских дворов. С утра предстояло ехать на допрос.
Спать устроились в машине на откинутых передних сидениях. Володя извлёк из багажника
два одеяла в чистых пододеяльниках, и сон был восхитителен и спокоен. Что? Говорите,
спать не удобно? Возможно. Даже согласен. Но тогда, проснувшись на рассвете, с
наслаждением чувствуя щекой белое чистое одеяло, глядя на спящие дома и деревья,
я слушал московскую раннюю тишину, а сердце тревожило и щемило чувство предстоящей
дороги.
Продолжение, может быть, следует