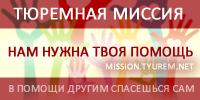Камеры, в которых я сидел: 184, 45, 17, 5, 4, 95, 5, 343, 193, 75, 147, 173, 147.
Начну с того, что до момента моего ареста я знал о местах лишения свободы не больше, а может и меньше, чем знает среднестатистический гражданин. Тем более, что тогда, в отличие от нынешнего времени о том, что происходит в тюрьме, информации было очень мало. Единственное, что вспоминается, пара фильмов. Один из которых «Беспредел», а второй – «По прозвищу «Зверь». Возможно, были и какие-то художественные произведения, авторов типа Шитова, но мне они не попадались. И ничего, кроме «Архипелага Гулаг» я про зоны не читал.
Так что, исходя из имевшейся информации о том месте, куда я попал, у меня были основания опасаться за свою дальнейшую жизнь и здоровье. Но особой боязни со своей стороны я не припоминаю. Может, это связано с шоком от резкой смены обстановки. Попадание в тюрьму, вообще один из самых больших стрессов, какие только возможны в жизни человека.
Помню, что в первую ночь моего заключения, на КПЗ в Броварах, я провел в одиночестве. Но был такой уставший от произошедших событий, что заснул, как только переступил порог камеры. На следующее утро меня перевели в другую камеру, где содержались уже два человека. Один какой-то малолетка, которого я плохо запомнил. Второй – мужик, рассказывавший, что он уже отсидел довольно много и вот опять собирается на следующий срок.
И первое, что я его спросил, было: «А вот дают людям срока, ну там по три года, по пять лет, и что, они все время тут сидят?» Это рассмешило не только много отсидевшего мужика, но и малолетку. Сразу же мне принялись объяснять, что то место, где мы находились – КПЗ, то есть камера предварительного заключения. В ней держат не дольше нескольких дней, пока не будет получена санкция на арест. В те времена такую санкцию давал прокурор. Сейчас это зависит от суда. Но смысл остается прежний.
Как только мера пресечения определяется, арестованного должны перевезти из КПЗ в следственный изолятор (СИЗО). То самое заведение, которое в народе называют тюрьмой. Хотя, если вдаваться в подробности, тюрьмой называли специальное учреждение, где содержались осужденные, приговоренные судом к тюремному заключению. То есть к отбыванию срока не в колонии, а в камерной системе. Такой довесок к наказанию можно было получить за особо тяжелые преступления или за плохое поведение в колонии с режимом помягче.
Киевское СИЗО известно на территории бывшего Советского союза под названием «Лукьяновская тюрьма». Название оно получило, понятно, от района, где находится. И если в дальнейшем в моем повествовании будет встречаться слово СИЗО или Лукьяновка, значит, речь идет о киевской тюрьме. В ней я находился без трех недель три года.
КПЗ, в том числе и броварское, в котором я провел трое с половиной суток, со вторника по пятницу первой недели моего срока, в те времена не особенно отличались от камер, описанных Солженицыным. Хоть и прошло 40 лет со времен Гулага. Сцена, размером два на три метра на которой иногда спят по пять человек. «Параша», ничем не отгороженная от остальной камеры. Стены, покрытые так называемой «шубой» (специальным образом положенной штукатуркой, с выступающими острыми концами по всей стене). Тусклая никогда не выключающаяся лампочка. Окошко размером 40 на 40 сантиметров с выбитым стеклом, которого, впрочем, все равно не видно из-за металлического «намордника» (листа с отверстиями по сантиметру диаметром). Все, понятное дело, серое и мрачное.
В нынешние времена таких камер уже, наверное, и не осталось, может только где-то на периферии. Везде сделали «евроремонты», положили нормальную штукатурку, побелили, сделали приличные отхожие места. Нет больше «сцен», вместо них обычные нары, на которых вполне можно спать при наличии матраца. Нет и «намордников», поэтому только что арестованные имеют возможность видеть дневной свет. Стало вполне терпимо.
Но это не значит, что тем, кто попадает сейчас, легче, чем было мне. Дело не в бытовых условиях. Дело, как говорится, в принципе. За день до этого ты мог делать все, что хочется, находиться там, где пожелаешь, общаться с людьми, которых сам выбрал для общения. А теперь находишься там, куда тебя поместили, делаешь то, что возможно в четырех стенах, общаешься с теми, кто есть, а наличие или отсутствие рядом этих людей от тебя не зависит. Сам по себе этот факт хуже мрачных прокуренных стен и разбитого окна за металлическим листом.
На психику это как влияло раньше, так и сейчас влияет. И никакими ремонтами тут не поможешь. У кого нервы слабые, тому вообще не позавидуешь. Что может случиться с человеком с неустойчивой нервной системой, лучше всех описал в своей книге «Иллюзия страха» Александр Турчинов, украинский политик и писатель по совместительству. Его герой в результате стресса вообще перестал разбирать, что реально, а что воображаемо. Правда, от того, что он оказался в камере, его проблемы только проявились ярче. А были они, в чем я уверен, и до встречи с правоохранительными органами и сокамерниками.
У меня психика оказалась более устойчивая и владеющая различными скрытыми механизмами смягчения последствий стрессовой ситуации. Пишу скрытыми, потому что я и сам-то тогда о них не знал. Это уже потом, когда я проанализировал свои воспоминания, прочитал много литературы по психологии, я понял. Да, стабильный характер не так-то просто и поколебать.
Я справлялся с первоначальным потрясением при помощи двух вещей. Сна и чувства юмора. Тот самый мужик из камеры, который много отсидел, все четыре дня смешил меня и присутствовавшего малолетку веселыми историями. Из лагерной жизни. Я уже не вспомню ни одной из них. Но то, что я просмеялся все дни, пока был в Броварах, мне запомнилось навсегда.
Я даже не огорчался, когда меня посещал следователь, которого сразу назначили вести дело. Он, кстати, запомнился мне нормальным молодым парнем, который даже всерьез думал о том, чтобы изменить квалификацию статьи в сторону смягчения. Но поэтому его быстро и поменяли. На Алексея Петровича, который лучше разбирался в вопросах ведения следствия.
В первые дни меня хоть и вызывали на допросы, много времени это не занимало. Тогда работали в основном с подельниками и со свидетелями. Как я говорил, с адвокатом я познакомился где-то на третий день. О том, чтобы увидеть жену речи вообще быть не могло.
Она, однако, к ее чести будет сказано, отреагировала очень быстро. Об услугах Александра Григорьевича она договорилась в день моего ареста. А о том, что я нахожусь в Броварах, узнала уже на следующий день. Привезла мне передачу. Я тогда еще как-то не задумывался о ценности передач в местах лишения свободы. Наверное, потому что не курил. А есть не хотелось. Поначалу было не до еды.
Запомнилось, что передачу на КПЗ в камеру всю не давали. Процесс ее выдачи выглядел так. Приглашали в специальную комнату, где досматривали переданное. Продукты, которые сразу было необходимо употребить в пищу, выдавали. Остальное оставляли в так называемой «камере хранения», обычном шкафу, который в этой же комнате и стоял.
В первой передаче жена мне зачем-то передала около килограмма чая. Я еще подумал: «Зачем столько-то?». Я его не особенно пил. Так, ароматизированный, в пакетиках. А тут черного целый килограмм. А оказалось, что просто моя супруга лучше меня разбиралась в том, что человеку в тюрьме нужно. Для чего мне столько чая, я понял уже, когда меня перевозили из КПЗ в СИЗО. Передачу перед этапированием (так называется перевозка всякого рода заключенных) мне отдали. И первое, что я услышал в «воронке»: - «Чай есть?».
Оказалось, что чай – неотъемлемая часть жизни в местах лишения свободы. Он крепко заваривается, получается «чифирь». Пьется зэками, причем с определенным ритуалом. Кружка идет по кругу, каждый делает по два глотка. По тому с кем человек пьет чай, определяется его статус. С кем ты чифиришь, тем ты и живешь. А в КПЗ чай по каким-то причинам был запрещен, и несчастные арестованные, которые до того пили его годами, специально ждали этапа в СИЗО. Что бы сразу в воронке у кого-то взять пусть даже сухого чая, пожевать его и восстановить необходимый в тюрьме тонус.
Чай действительно повышает тонус и улучшает настроение. А помимо этого, или даже в связи с этим, считается чем-то вроде тюремной валюты. Второй по ценности после сигарет. Так что в СИЗО я попал уже подготовленным.
Думаю, что первым впечатлением практически любого человека, оказавшегося в Лукьяновском СИЗО, будет то, что он попал в подземелье. Как только автозак въезжает в ворота изолятора и останавливается на пункте приема арестованных, после проверки сопроводительных документов, что занимает до получаса, подследственные закрывают в так называемых «боксах». Это такие каменные мешки размером 3x4 метра, в которых держат новоприбывших до момента распределения по камерам.
Располагаются эти боксы в два ряда чуть ниже уровня земли. Так как окон в них нет, дневной свет туда не попадает и возникает полное ощущение нахождения под землей. Чтобы попасть из одного ряда в другой необходимо пройти через обыск и санитарный пропускник. Процесс этот занимает некоторое время. У каждого прибывшего до трех часов. Учитывая, что каждый день из СИЗО утром уезжают, а вечером возвращаются до 500, а то и больше, человек и всех надо обыскать и помыть, три часа еще нормально.
Но проторчать в одном таком мешке полтора часа, дыша сигаретным дымом, запахом туалета и стен, покрытых пропахшей никотином «шубой», человеку со слабым здоровьем нереально . После чего во втором таком же мешке еще столько же. Не удивительно, что все, кто попадает в СИЗО, особенно бывшие политики, работники государственных учреждений и правоохранительных органов, моментально начинают жаловаться на здоровье. Хочу сказать, они не очень-то и преувеличивают. От пары часов нахождения в такой камере здоровье пошатнется у кого угодно.
Но, это только начало. Мне еще из первых часов в СИЗО запомнились принимающие контролеры. Которые дубинками и криками заставляли двигаться быстрее. Именно тогда окончательно понимаешь, что ты уже далеко не обычный человек, с какими-то правами. Права человека остались за высоким забором и колючей проволокой.
Те, кто приехал в изолятор с каких-то следственных действий или с заседания суда, довольно быстро, за те самые часа три, проходят через боксы и возвращаются в свои камеры по подземному переходу (который окончательно закрепляет ощущение подземелья). Поступившие впервые вынуждены ждать пока там, наверху, какой-нибудь оперативный работник тюрьмы решает, в какую камеру распределить прибывшего человека.
Вопрос это не простой. На то, куда будет помещен человек, влияет много факторов. В частности, тот, кто никогда до этого не бывал в местах лишения свободы, должен содержаться с такими же новичками, как и сам. И в идеале, те, кто сидят в одной камере, должны как-то совмещаться друг с другом психологически. Во избежание конфликтных ситуаций. Таким вот совмещением и должны заниматься работники тюрьмы, от которых зависит распределение контингента по СИЗО. Они даже ради этого курс психологии проходят в своем учебном заведении.
Но на деле, влияние оказывают совсем другие факторы. Главный из них – следственная целесообразность. Если, конечно, человек проходит по такому делу, где еще не все ясно и не полностью доказано. В таком случае камера его будет на четыре человека, максимум на шесть. На тюремном языке она называется тройником. В этом тройнике ему предстоит встретиться с кем-то, кто или уже очень долго сидит, все знает про тюрьму, зоны и следствие, или имеет много общего с заехавшим.
Такой человек составит приятную компанию, в чем-то даже утешит, что-то подскажет. И при этом выяснит то, что еще не совсем понятно следствию и в точности ему передаст.
Название таким сокамерникам придумали разные. «Курица», «наседка», «кумовской» и так далее. Все про них пишут, даже удивительно, что до сих пор есть люди, которые случайно попав в тюремную камеру, ничего про подсадных уток не знают. Но удивительно и то, что как в случае игральных автоматов или финансовых пирамид, все знают, но попадаются. Постоянно. И это немногое из того, что не поменялось за время, пока я отбывал наказание, за годы и годы до меня, и, уверен, не поменяется никогда. Пока не перестанут сажать рецидивистов к «первоходочникам» (тоже зоновское выражение, те, кто по первому разу).
Тут работает простая человеческая психология. Знай человек хоть тысячу раз, что ни о чем, относящемся к делу говорить нельзя, в камере он от этого не сможет удержаться.
Выговориться просто необходимо. Неважно перед кем. Для психологической разрядки. Ведь почти никто не в состоянии держать в себе то, что беспокоит в данный момент больше всего.
Так что без общения невозможно. Обсуждаются сначала общие темы. Из которых самая общая – кто за что попал и какие мусора уроды (мягко говоря). В процессе этого разговора тот, кто сидит для того, чтобы получить необходимую информацию, получает ее в полном объеме. И даже более того.
И ничего странного в этом нет. Общение с сокамерниками проходит не в определённые часы, как со следователями. А с момента, как человек проснется, до того, как опять ляжет спать. Целый день, с утра до вечера. Без всяких перерывов. В принципе, кроме общей упомянутой темы будут обговорены вообще все, какие только возможны. Биографии сначала сидящих, потом их родных, потом знакомых. Различные вопросы образования, религии, политики. Музыка, кино и женщины. Вообще все, что можно только придумать.
Так что, в результате этого общения, повторюсь еще раз, тот, кто сидит рядом с вами и если его задача – помочь следствию в сборе доказательств по вашему делу, получит огромные возможности их найти. С ваших слов. Конечно, на суд этого человека не вызовут. Но, исходя из того, что про вас станет известно, следственные органы привлекут свидетелей, которые подтвердят всё, что нужно. А если вы расскажете о каких-то реальных фактах, то и экспертизы все необходимые проведут. Чтобы вас изобличить.
Что можно посоветовать на этот счет? Первым делом, оставшись наедине с самим собой, решите, что и как может быть доказано, пусть даже теоретически. Какие факты могут быть трактованы двояко, какие люди и за что вас недолюбливают и могут на вас наговорить. Получится определенное количество пунктов.
Так вот, дайте себе обещание, что эти пункты никогда и ни с кем во время нахождения в камерах под следствием вами обсуждаться не будут. Лучше всего запомнить ключевые слова и зафиксировать их в памяти. Как только разговор с кем бы то ни было будет натыкаться на эти слова, сразу меняйте тему!
Возможность остаться наедине может появиться или перед помещением в КПЗ (пока будут держать вас в так называемом «обезьяннике»), или когда в камере вы некоторое время будете сами. Конечно, даже в присутствии сокамерников можно избежать общения и поразмыслить над тем, какие темы обсуждать, а какие закрыть для любого обсуждения. Но это не у каждого получится.
У меня, например, не получилось.
Как я уже писал, в Броварской КПЗ я провел трое с половиной суток. С позднего вечера понедельника по раннее утро пятницы. Помню, что по делу там я почти ни с кем не говорил. Возможно, что тогда следствие еще не определилось окончательно, по какой статье меня разрабатывать. Да и казалось им тогда, что доказательств по моему делу достаточно. Поэтому там я с «наседками» не встретился.
А вот в СИЗО я и столкнулся именно с тем, о чем рассказывают и пишут.
Помню, как вчера. Переезд в «воронке» из Броваров в Киев. Прием в описанном выше подземелье. Часы нахождения в каменных «боксиках». Обыск. Оформление, то есть снятие отпечатков пальцев, фотографирование, составление анкеты. Путешествие под конвоем по долгому подземному переходу в собственно тюремные корпуса. Бесконечные железные двери с решетками, узкие каменные лестницы, ряды зеленых железных дверей с глазками и засовами.
Четвертый этаж корпуса под названием «Катька».
Кто не знает – от русской царицы Екатерины. Хотя корпус и был построен гораздо позже ее правления, сверху он имеет вид буквы «Е». Сразу упомяну, что на Лукьяновке имеются еще корпуса названные именем не менее известных исторических деятелей России и независимой Украины. «Столыпинка», «Брежневка», «Кучмовка». Исходя из названий, можно примерно определить возраст каждого. Не могу не похвастаться (хотя данное слово в моем контексте не совсем уместно), что я был в числе первых обитателей «Кучмовки». Но до этого еще полтора года.
Камера 184. «Катька». До меня там сидели два человека. Оба довольно колоритные.
Один – цыган из Ирпеня. Вова по прозвищу Тихий. Как я впоследствии узнал, его рассказы о том, что он пользуется уважением среди киевских цыган и имеет дела с несколькими известными бригадными авторитетами, не были лишены оснований. У нас с ним сразу нашлось кое-что общее – автомобили BMW и интересы в сфере автосервиса и стоянок. Вове было на тот момент 37 лет, и сидел он по обвинению в вымогательстве.
Несмотря на то, что он обвинялся в занятиях рэкетом, а у меня потерпевшие были вымогателями, мы неплохо с ним поладили. Конечно, для этого мне пришлось много рассказывать о том, за что меня все-таки посадили. Но и он особенно не скрывал деталей своего дела. Которые сводились к тому, что он хотел свое, а его обвинили в вымогательстве. Он, конечно, был не против у кого-нибудь что-нибудь повымогать, но в этом случае дело, по его словам, было совершенно надуманное.
Второй житель 184-й камеры поначалу показался мне серьезнее и авторитетнее Вовы Цыгана. Его звали Саша. Прозвище – Немец. По его словам, к моменту нашего знакомства отсиженных лет за его спиной было целых 17 (!). Да и татуировки его говорили об этом же. Для меня, как для человека от тюрьмы далекого, это было, безусловно, внушительно.
Он утверждал, что за время своих сроков был в близких отношениях с такими людьми, по сравнению с которыми те авторитеты, о которых я слышал, просто мелкая дворовая шпана. Отбывал наказания в разных местах. Например, в Коми АССР. А до того, первый срок, вообще где-то в Красноярске. Последний раз его посадили за какую-то кражу. Но так как он уже битый волчара, доказать ему ее не могут. Поэтому возят по СИЗО уже полтора года.
Послушать его было интересно. Он знал кто есть кто в уголовном мире, много говорил о «понятиях», о жизни в тюрьме и на лагере, о «мастях» заключенных. С его слов я немного начал разбираться, чем отличается «блатной» от «мужика» и узнал, что «петух» это далеко не домашняя птица.
Как и любой представитель традиционного криминалитета, он не очень уважал современные на тот момент течения. Такие как рэкет, сутенерство и торговлю наркотиками. Поэтому он, так же как и Вова, нормально отнесся к моей ситуации. Оба они пришли к выводу, что мои потерпевшие беспредельничали и получили от нас то, что заслужили. Особенно в случае угроз в отношении моей жены и родителей подельника Андрея.
Кроме этого Саша аккуратно подталкивал меня к мысли, что я совершил такой поступок, который может даже создать обо мне определенное мнение в преступном мире. Не авторитет, конечно, сразу. Но с перспективами на будущее. И для того, чтобы это мнение поддерживать и развивать, необходимо… Чтобы вы думали? Ну конечно же. Делать взносы. В «общак». Который в нашей «хате» был, естественно, у Немца.
Сыграл он на моем самомнении очень технично. Подпитка, конечно, была неплохая. Одно то, что в камере под нами сидел Череп (тот самый), а Саша рассказывал, что с его (Сашиной) помощью, он узнал про меня и теперь у меня будет возможность, в случае необходимости решать вопросы с таким авторитетным человеком, порождало во мне надежды на будущее.
Уже вскоре я вспоминал об этом со смехом. Череп тогда действительно сидел там, где я сказал, но вряд ли он всерьез переписывался с нашим сокамерником.
Еще по советам Немца мне не стоило очень настаивать на том, что убийство произошло уж так случайно. Наоборот. Он говорил, не надо скрывать, что «терпилы» получили по заслугам. И развивая в разговоре со мной эти темы, он получил от меня столько информации, что прокуратура потом исписала кучу бумаги. Появилось еще много людей, которых понадобилось допросить, наметился еще целый ряд вопросов, которые следовало задать.
А еще после общения с ним меня стали посещать сотрудники отделов по борьбе с экономическими преступлениями. И вопросы у них были весьма конкретные.
Александр Григорьевич, зная методы работы наших следственных органов, сразу по моему приезду в СИЗО предупредил меня о том, что в камере у меня будет секретный сотрудник и что надо думать, о чем имеет смысл говорить. А лучше дело вообще не обсуждать. Но первое время я не особенно следовал его советам. Уж очень убедительно рассказывал о жизни Саша Немец.
У нормального человека поначалу в голове не укладывается, что преступник-рецидивист может запросто сотрудничать с милицией. И даже получать за это вознаграждение. В виде сигарет, чая, колбасы и возможности выпить с «кумом» водки.
Иногда Сашу вызывали из камеры на следственный корпус. Он рассказывал, что идет к адвокату. Который ему приносит передачу с упомянутыми продуктами. Как-то я тогда еще не мог подумать о том, что у него не может быть такого адвоката. Защитник, назначенный государством бесплатно (по-тюремному «мусорской») водки не принесет. И о том, что после 17 лет, проведенных в местах лишения свободы, вряд ли у человека будет жена, которая наймет ему дорогого адвоката. А у недорогого, как и государственного, вряд ли будут такие возможности.
Вова Цыган, наблюдая наши отношения и слушая наши разговоры, только посмеивался про себя. Он, как человек, имеющий отношение к преступному миру и знающий о тонкостях и нюансах камерной жизни, прекрасно разобрался в том, кто такой Саша Немец. И в том, что половина из его рассказов – вымысел в чистом виде. Но, пока тот был в нашей камере, не мог мне об этом сказать. Даже тогда, когда мы оставались вдвоем, пока Саша ходил к «адвокату».
Вова не мог доверять и мне. А то вдруг он поделится со мной своими соображениями насчет того, куда ходит Немец и о чем там рассказывает, а я возьму ему и расскажу. Ведь доказать что-либо в этом плане невозможно. А проблемы потом гарантированы.
Так мы и жили первые три без малого месяца. Саша помогал писать «малявы» на свободу. У него якобы была возможность туда их передавать. Большая часть из них сводилась к тому, что нам не хватает тут денег для решения разных, не помню уже каких вопросов. Да и «общак», опять же.
«Малявы» писали и я, и Цыган. Но тот, как я понимаю, делал это для того, чтобы подыграть Немцу. Сам же сразу через своего адвоката передавал другие инструкции своей жене, и она действовала в соответствии с ними. А в моем случае, вероятно, мой защитник пояснил Лене, насколько серьезно надо относиться к запискам, которые она получает не через него от меня. Могу себе представить, как бы я потом расстраивался, если бы она действительно передала через Сашиных контролеров те несколько тысяч долларов, о которых я писал.
Так что в качестве материальной пользы Немец довольствовался в моем случае золотой цепочкой, которую как-то странно не заметили во время обыска при приеме в СИЗО. И несколькими блоками сигарет, которые по моей просьбе передала мне жена, а он увез с собой, якобы в качестве «грева» на лагерь. От «стремящегося» Саши Адашева.
А уже когда Немец отправился в колонию строгого режима, в Одесскую область, о чем я помогал писать ему заявление, Вова и обратил мое внимание на некоторые странности. На то, что адвоката, приносящего водку и колбасу у него быть не может. На то, что если он был таким правильным пацаном, почти блатным, то чего же он побоялся ехать на один из трех расположенных возле Киева лагерей строгого режима. И на то, что во-первых, он вообще не должен был сидеть с нами в одной камере, а во-вторых, для его сторублевого дела полтора года следствия многовато.
Я слегка расстроился, и начал лихорадочно вспоминать, что же я ему наговорил за все время нашего общения. И то, что я вспомнил, меня не утешило. Практически все и про всех. Не буду утверждать, что именно из-за него я получил потом 15 лет, но если бы я что-то пытался скрыть в разговоре со следователями, они все бы узнали от Саши Немца.
Так что, если ваша камера – «тройник» и там есть кто-то похожий на описанного персонажа, 100 процентов гарантии, что это еще один следователь. На общественных, так сказать началах.
После отъезда Немца мы пару дней пробыли вдвоем с Вовой Тихим, а через несколько дней к нам подселили (в тюрьме принято говорить «закинули» или «забросили») пацана моего возраста. Леху из Молдавии, который уже успел побывать на малолетке. Он, как каждый молдаван, оскорблялся («обижался» говорить в тюрьме нельзя), когда его называли Лехой. А вообще был довольно простой парень, посадили, правда, которого небезосновательно. Обвинялся он в мелком воровстве, и мечтал о том, чтобы ему дали не больше трех лет.
Цыгану я помог написать несколько жалоб и заявлений (вот когда пригодилось мое образование!). Ну и его жена с нанятым ею адвокатом не сидели сложа руки, правильно вкладывали Вовины деньги, и вскоре, то ли после суда, то ли еще во время следствия, он вышел из СИЗО на свободу.
Пока он сидел, из чувства арестантской солидарности (существует такое понятие), он пообещал помочь нашему сокамернику Лехе с адвокатом. Я, после выработанного в результате общения с Немцем иммунитета к камерным рассказам и обещаниям, очень скептично отнесся к тому, на что рассчитывал Молдаван со стороны Цыгана. Но жизнь опять меня удивила своей оригинальностью.
Леха ездил на суды куда-то в область. Его сняли с поезда за мелкое воровство. И как-то раз он в камеру не вернулся. Оказалось, что Вова Цыган, освободившись, выполнил свое обещание. Нанял ему адвоката, который за небольшой взнос добился подписки для Лехи. Это я узнал где-то через год от одного из моих многочисленных сокамерников, который после Лехиного освобождения общался с ним в Киеве.
Чтобы закончить рассказ про Вову Цыгана-Тихого опишу два интересных момента. Он тоже придерживался понятий и рассказывал, что старается жить и поступать в соответствии с ними. В подтверждение этого рассказывал один случай (хотя может и не один, но этот я запомнил). У Вовы была автостоянка, где продавались автомобили. И как-то один приезжий из Грузии парнишка, «гастролер», угнал с его стоянки какую-то недешевую машину.
Парень тот работал таким образом. Прилично одевался, костюм, папочка, и ездил по таким местам продажи автомобилей. В папке у него находилась «кукла» - пачка фальшивых денег, по виду тысяч на 20 долларов. Автомобили, как правило, стояли на стоянке, отгороженной шлагбаумом. И помимо сторожа, обязательно был еще человек, который принимал потенциальных клиентов на покупку автомобиля. Сейчас бы сказали – менеджер по продаже.
Угонщик заходил на стоянку, смотрел тачки, и просил провести тест-драйв одной из них. При этом как бы невзначай демонстрировал наличие у него в папке денег и документов. Менеджер заводил машину, садился за руль и выводил ее за территорию. А парень этот оставлял для уверенности работников автостоянки свою папку, якобы с деньгами, и тоже садился в машину. Во время тест-драйва он просил остановиться, подходил к выхлопной трубе и спрашивал менеджера, почему оттуда течет вода.
Вода не текла, но чтобы ее увидеть, последний наклонялся и пытался ее рассмотреть. В этот момент получал по голове, ненадолго терял ориентацию, а паренек прыгал в машину и, благо, что она была заведена, давал по газам. Несколько стоянок он уже таким образом сделал.
Как Вове позвонили и рассказали, что он обеднел на одну из реализуемых машин, тот сразу решил, как с этим бороться. Он собрал максимально возможное количество своих людей, и посадил их на столько похожих стоянок, на сколько смог. Каждому дал описание гастролера.
И буквально на следующий день его вычислил. Бить не стал. Просто попросил отдать машину. Так как она еще не успела покинуть пределы Киева, паренек вернул ключи и рассказал, где она стоит. При этом думал, что угонять машины он уже не сможет по причине отсутствия здоровья.
Но, когда пацаны Тихого приехали на угнанной тачке, при чем она оставалась такой же, как на стоянке, Вова угонщика отпустил. Да не просто отпустил, а дал ему денег. Объяснив это так, что он уважает работу каждого, а такой способ угона тоже работа. Но раз уж он оказался умнее, что ж поделаешь. Жизнь. По понятиям. Еще он говорил, что потом приезжали Грузины, приближенные кого-то из воров в законе, и хотели с ним познакомиться с целью сотрудничества. Так как уж очень правильный поступок он совершил.
Все это с его, Тихого, слов. Я еще, когда он это рассказал, думал: «Ну ты и врешь!». Или вообще не поймал ты того угонщика, или действительно поймал, но здоровье ему попортил.
Однако где-то через год свела меня моя тюремная судьба с этим грузином. Сидел, само собой, за угоны. И он, рассказывая про свою жизнь в Киеве, точно так же описал тот случай. Со своей стороны. Говорил, что никогда в жизни так не удивлялся. Вычислили, забрали машину, но не избили до смерти, а отпустили, да еще и денег дали.
Потом еще сидел со мной парнишка, который общался с тем самым Молдаваном. Рассказывал, что познакомился с ним на каком-то из пляжей Киева. Тот был на модном микроавтобусе. Работал на Тихого. После освобождения, которое ему организовал последний, Леха пришел к Цыгану, тот дал ему денег, ключи от микроавтобуса, но с условием, что в любой момент будет в распоряжении и в досягаемости. У Тихого была своя небольшая бригада, и люди ему, в принципе, были нужны.
Но Молдаван оказался молдаваном. Он редко был в распоряжении и почти никогда в досягаемости. Вместо этого, познакомился с пацанами, один из которых мне это и рассказывал, и ездил по разным заведениям и снимал телок. За счет новых друзей, под наличие у него модной тачки.
В конце концов, у Вовы Цыгана лопнуло терпение, Леха был найден, наказан и изгнан из Киева.
Поэтому, когда года через полтора, в хату, где я в тот момент сидел, опять вошел Вова Тихий, я даже обрадовался. Раз уж другие люди о нем так положительно отзывались, и он мог позволить себе откупить совершенно бесперспективного дурачка только из арестантской солидарности, общение с ним могло оказаться весьма перспективным и полезным.
Во второй раз он опять обвинялся в вымогательстве. Но теперь дело вел недавно организованный УБОП. А год был 95-й. Время действия указа о борьбе с организованной преступностью. Убоповцы тогда серьезно подошли к вопросу отчистки Киева от авторитетов, которые не сотрудничали с ними или просто стали не нужны. В случае Вовы был найден студент юридического факультета Университета, который в качестве практики помог Тихого посадить. Он через знакомых одолжил у Вовы денег. Достаточно, чтобы Тихий хотел их возврата. Во время их возврата его и приняли. Как положено, в масках и с автоматами. Факт передачи был зафиксирован, а показания студента пошли ему в качестве зачета на курсе уголовного права.
Да и вообще, каким-то уставшим мне показался Вова Тихий во второе наше с ним пересечение на Лукьяновке. Он говорил, что будет рад получить 5 лет. Только для того, чтобы отдохнуть от происходящего беспредела. Понятно, что жаловался он не на бандитский беспредел.
Я бы с удовольствием пообщался с ним после освобождения. Но, не пережил он бурных 90-х.
Из 184-й хаты перекинули меня в 45-ую. Эта камера находилась в корпусе, названном в честь генерального секретаря ЦК КПСС. Брежнева, я имею в виду.
В этой камере про меня уже слышали. До меня там сидел мой подельник Виктор, брат сотрудника СБУ Александра. Он шел по одному делу с нами, но обвинялся не в соучастии в убийстве, а в том, что помогал брату и еще одному участнику событий, Алексею, прятать трупы потерпевших. Через три недели после происшедшего.
Статья, которую ему вменяли, называлась «заранее не обещанное укрывательство совершенного тяжкого преступления», и максимальный срок, который ему грозил – 3 года. Поэтому его продержали в СИЗО вместе со всеми нами три месяца, после чего выпустили под подписку про невыезд.
Кстати, это тоже было одним из методов получения необходимых прокуратуре показаний от Александра. Ему объяснили, что сидеть придется в любом случае, а вот брата могут выпустить. А могут и не выпустить. И для того, чтобы Витя вышел на подписку, Саша должен был подтвердить уже окончательно к тому времени разработанную версию следствия. Которая сводилась к тому, что я предлагал ему и другим участникам событий деньги за убийство. И что мы заранее планировали лишить жизни наших потерпевших.
А чтобы Александр был еще более сговорчивый, дома у них в результате обыска были изъяты где-то с десяток автоматных патронов, а в гараже десять лобовых стекол к Жигулям. За патроны возбудили уголовное дело за незаконное хранение оружия и боеприпасов против него с братом, а за стекла – дело по статье «Спекуляция»! Да, такая еще тогда была. И посадить за нее вполне могли. Причем не того, кто уже сидел, а еще и их отца. Бывшего прапорщика, к тому времени пенсионера.
Понятно, что их мама такого бы точно не выдержала. И в результате необходимые показания от братьев следствие добыло. Отца их, слава богу, не посадили, дело о «спекуляции» закрыли, Виктора выпустили на подписку.
А я переехал в камеру, в которой тот содержался первые три месяца нашего следствия.
Конечно, мой переезд туда был не случайным. Там тоже сидел мужичок, звали которого Петя, и отсиженных у него было тоже о-го-го сколько. Лет Петрухе было около сорокапяти. Занимался он всю жизнь карманными кражами. За что регулярно сидел. Быть карманником ему не мешало даже то, что во время отбывания одного из многочисленных сроков он лишился кисти левой руки. Работал он на столярке, и отрезало ему ее пилой.
Однако он запомнился мне своим чувством юмора и простым отношением к проблемам, которые все восприняли бы как сложные.
«Кисти руки нет?». «Зато никто не думает, что это я сумки режу!» Приблизительно так он относился к своей инвалидности.
Как же тогда он попал в этот раз, задал я ему естественно такой вопрос. На что он ответил, что по большому счету сел сам. Надоело ему на свободе. Как инвалиду больше трех не дадут, хоть он и рецидивист. А там может быть, что-нибудь на свободе поменяется. Или заочку (знакомую по переписке, чем очень любят заниматься некоторые зэки) себе найдет и проведет старость в спокойном месте.
В процессе нашего общения я рассказал ему про Сашу Немца, помощника моей следственной группы. С таким аккуратным вопросом, почему меня опять посадили к рецидивисту. А Петруха меня удивил. Он не стал придумывать никаких тому объяснений, а просто сообщил мне, что и он тоже сотрудничает с оперчастью. Витю как раз к нему и посадили, чтобы выяснить все, что он знал, но на допросах не говорил.
А вот мотивы своего сотрудничества с милицией он объяснил очень четко и понятно. Пока он работает с ними, и сокамерники у него с передачами, и телевизор в камере есть, и администрация тюрьмы нормально относится. Сидеть, короче, можно. Само собой, если бы он видел, что я это неадекватно восприму, откровенничать не стал бы. Но, учитывая то, что я к преступному миру не отношусь и вообще человек сравнительно нормальный, решил, что риска никакого нет. А отношения будут налажены.
Закончили мы знакомство тем, что он попросил меня то, что следствию знать не нужно, при нем не говорить. Отчитываться то ему все равно придется, и он так или иначе расскажет все, что услышит.
Из тех, кто сидел в 45-й камере с нами, я почти никого не запомнил. Был вроде бы член УНА-УНСО, сидевший по статье «незаконные вооруженные формирования». Такой себе сельский мужик. Он проспал все почти время на «пальме» (так называется нара, находящаяся на втором ярусе), никакой агитации за свою организацию не вел.
Я не забыл про него потому, что как-то раз вывели нас для очередного обыска в камере на коридор, и кто-то из контролеров или толкнул УНСОвца, или сказал ему что-то типа «шевелись», а я, недолго думая, говорю такую фразу: «Ты бы с ним поосторожнее. Того и гляди УНСО к власти придет, он тебя запомнит, представляешь, что тебе тогда будет?». Я даже не ожидал, что это такое впечатление произведет. Контролеры стали какие-то вежливые. А вот тот, именем которого я напугал администрацию, сам испугался, говоря, что зря это я. Они совсем не такие. Никому мстить не будут.
По их делу проходило тогда довольно много человек, и получили они разные срока. Но не больше трех лет.
Пару месяцев, проведенных с одноруким Петрухой, я потратил на ознакомление с тюремными и лагерными карточными играми. Петя одной своей здоровой рукой и второй культей делал из бумаги и хлебного клейстера игральные карты. Их отшманывали, он опять делал, при помощи чего убивал время. В результате моего с ним общения я стал отличать одну игру от другой и понял, что карты в тюрьме – это не мое.
Петя, слава богу, не ставил себе задачу выиграть у меня какую-то сумму денег. Хотя, так как я вообще не любитель азартных игр, под интерес играть бы с ним не стал. Он еле уговорил меня поиграть с ним во что-нибудь без интереса. Для чего сам меня научил. Играл он интересно. Карты он свои помнил и почти в них не смотрел. Рукой без кисти он прижимал их к груди, здоровой рукой ходил. Понятно, что выиграть у него я не мог.
Через некоторое время нас вместе с ним перевели в камеру №17, на первый этаж «Брежневки». Было уже лето 94-го года, предполагались выборы президента. После принятия в 1996-м году Конституции, право голосовать получили и осужденные. А тогда голосовали только подследственные, хотя я и этому удивился. Голосование в тюрьме! Интересно!
Процесс происходил таким образом. Освобождалась одна из камер-тройников на этаже. Там устанавливалась кабинка для голосования, на входе сидели члены избирательной комиссии, выдавали бюллетени, фиксировали избирателя. Избирателей выводили из камеры, сопровождали до «избирательного участка», ставили лицом к стене, руки за спину. Кто-то первый брал бюллетень, заходил в камеру, потом в кабинку, заполнял необходимые графы, кидал его в урну. После чего выходил из камеры, опять становился лицом к стене, как положено арестованным, и ждал, пока проголосуют сокамерники. На голосование выводили по одной «хате».
Могу сказать, что тайну голосования в СИЗО не нарушали. Каждый мог поставить галочку в графе того, кого хотел. Так как Кравчук к тому времени уже всем надоел, само собой больше сторонников было у Кучмы.
А вот на проходящих выборах в депутаты, большинство голосовали за Медведчука. Как же, ведь адвокат. Да и какой-то чай с сигаретами от его имени незадолго до выборов раздавали. В качестве гуманитарной помощи. А зэку непорядочно тогда было чай выпить, сигареты скурить, а за того, кто их «подогнал» (подарил, значит), не проголосовать.
Еще в камере 184 я слышал о так называемых «коммерческих хатах». Это когда в камере горячая вода, холодильник, большой телевизор и ковры на полу. Подозревал, что так оно и есть. А когда проходили выборы, смог убедиться в правдивости этих рассказов от постоянного жильца такой камеры.
Под избирательный участок выделили камеру №20. О которой по тюрьме ходили слухи, что именно она и есть коммерческая. И сидит там такой Лёсик, довольно известный в Киеве человек. Наша «хата» 17 находилась на том же этаже, что и 20-я, расстояние между дверями составляло метров 10. Поэтому, когда Лесику сообщили, что на время выборов ему придется переехать и поинтересовались, с кем он будет сидеть, он решил, что 17-я ему подойдет. Недалеко и контингент нормальный.
Я тогда еще довольно неплохо себя чувствовал в материальном плане. Регулярно мне жена передавала передачи, регулярно их приносил адвокат, телевизор у меня был, хоть не большой, но и не очень маленький. Но когда переехал к нам Алексей из коммерческой камеры, я понял, что есть люди, по сравнению с которыми я нищенствую.
Сигарет и чая, которые у него были, хватило бы на средний киоск. Еде ему почти каждый день приносила адвокат. А готовили в «Гурмане». Ресторан этот имел к Лёсику непосредственное отношение. Мой маленький телевизор был убран под нару, так как у Алексея был какой-то японский с диагональю больше 60 сантиметров. Из его рассказа о камере №20 я узнал, что «коммерческие хаты» действительно существуют
Запомнилось, что или родной его брат, или какой-то очень близкий человек занимался всеми вопросами на свободе, а сам он постоянно сидел. Всего к тому моменту уже не меньше 20-ти лет. А на СИЗО последний раз два года с лишним. Вменяли ему изнасилование. Было уже несколько судов, первый приговор 10 лет, был отменен, второй приговор – 5 лет тоже находился как раз на стадии кассационного рассмотрения, из чего можно было сделать вывод, что не такой уж он и насильник, как его пытались изобразить органы. Просто на свободе он был не особенно нужен, и милиция Подольского района, с детства его не любившая, делала все возможное для того, что бы долго он по Киеву не гулял.
Он был мне очень интересен с той точки зрения, что имел достаточно информации, кто есть кто в криминальном мире Киева, как решаются те или иные вопросы, как понимают «понятия» разные люди. Но, стоит сказать, что он, как и абсолютное большинство действительно серьезных людей, не очень любил говорить на эти темы. Было видно, что человек действительно многое знает, но не считает нужным с кем-то делиться. Особенно при одноруком Петрухе. Который и сам-то не очень уютно себя чувствовал в одной камере с Лёсиком.
Алексей заразил меня любовью к сериалам. Он каждый день смотрел «Санта-Барбару». Не пропускал ни одной серии. С самого начала я удивился. Как такое может быть интересно человеку типа Лёсика. Но, подумав, понял. Конечно, своей жизни нет, становится интересно смотреть хотя бы на чужую. А учитывая, что он начал просмотр с самой первой серии, все герои за два года стали как родные. Известно про них больше, чем про действительных родственников, оставшихся на свободе.
Посмотрев за компанию с ним несколько серий, я и сам проникся любовью к героям, переживал по поводу случающихся в их жизни событий , осуждал интриги, которые постоянно плела одна из героинь, и изучал тем самым человеческую психологию. Оказалось, что то, что помнилось из реальной жизни, очень иногда похоже на происходящее с героями сериалов.
Если бы не «Санта-Барбара» и другие, не помню уже названий, сериалы, сидеть было бы гораздо скучнее. Как в тюрьме я себя чувствовал только тогда, когда ломался телевизор.
Кроме сериалов смотрелись всевозможные фильмы, причем не было такого, которого не видел бы Лёсик. Смотрю анонс, говорят, такой-то фильм показывается первый раз. А Алексей уже его видел. Я этому постоянно удивлялся. На что он говорил, что буду вспоминать про него через полтора-два года, когда не останется фильмов, которые бы еще не смотрел. Так оно и оказалось. К окончанию моего пребывания не Лукьяновке я пересмотрел все наши и американские фильмы, снятые к тому моменту. Я и до сих пор могу быть экспертом по кинематографу до 1996 года. А вышедшие тогда «Отважное сердце» Мела Гибсона и «Криминальное чтиво» Тарантино навевают ностальгические воспоминания.
В свою хату Лёсик не вернулся. Пока мы сидели вместе, пришло решение кассационной инстанции о том, что срок его не пять, а три. И он уехал от нас на знакомый ему лагерь строгого режима в Березани досиживать оставшиеся полгода.
Следующая камера, в которую меня перевели, имела номер 5. Корпус – «Столыпинка». Тройники на «Столыпинке» отличаются своим размером. Если обычную «хату» тройник никак не назовешь просторной, на корпусе, о котором идет речь, она вообще размером где-то с чулан в старых трехкомнатных квартирах. От входа до нары, находящейся под окном, метра два. Может, чуть больше.
Мест действительно три. Около одной стены две нары, одна над другой, под окном еще одна. У другой стены вделанный столик, размером в ширину где-то 30, а в длину 80 сантиметров. Около столика лавка. Между лавкой и нарой расстояние не больше 40 сантиметров.
Сразу за входом, по той же стороне, что и столик, параша. Отгороженная плитой и закрывающаяся дверкой. Плита эта называется «парусом». Высота «паруса» - около метра двадцати. Чтобы протиснуться между «парусом» и нарами, даже мне, хоть я далеко не широкоплечий, приходилось поворачиваться боком.
Этаж первый, почти подвал. Телевизор с трудом принимал там три или четыре канала.
Как раз подходил к концу первый год моего заключения. Поздняя осень, а потом и зима. Стало прохладно. Несмотря на то, что оконное стекло присутствовало и даже было целым, оно от холода не спасало. Уж очень велики были щели между рамой и стеной. Сквозняк постоянный. Как не пытались мы законопатить все отверстия, тянуло все равно.
Не замерзнуть вариантов было два. Лежать под двумя одеялами и верхней одеждой. Или ходить по камере взад-вперед. Тусоваться. Два с половиной шага в одну сторону, столько же в обратную. При этом приходилось снимать дубленку и постоянно поворачиваться боком, чтобы протискиваться между нарами и «парусом».
Первый вариант мне не очень нравился, поэтому я постоянно ходил. Не знаю, сколько километров проходил таким способом каждый день, но наверное много, так как эти «тасы» я тоже запомнил. А чтобы ходить было не скучно, я брал словарь. Англо-русский. И учил наизусть слова. Начиная с первой буквы. Таким образом проводил время с пользой.
Из этой камеры могу вспомнить паренька моего возраста и так же как я далекого от мира криминала. Кажется, звали его Руслан. Или закончил, или еще учился он на факультете журналистики. И был соучредителем и исполнительным директором рекламной газеты «Досье досуга». Он первый начал работать на рынке журналов, которые советуют, где, как и за сколько провести свободное время. Поначалу бизнес его, как и все, был не очень прибыльный. Ушли время, энергия и нервы, чтобы начать издавать и продавать эту газету. А потом оказалось, что дело очень даже интересное. Особенно для второго соучредителя. Который решил, что небольшой зарплаты Руслану вполне хватит.
Тот с такой постановкой вопроса не согласился, отношения порвал и решил переехать в другой офис. Для чего необходимо было перевезти мебель и технику. Второй соучредитель написал заявление о том, что перевезенное было украдено. Посадили Руслана за кражу.
Система наша такая, что раз уж арестовали, значит надо крутить на срок, а не выяснять то, что обвиняемый имел к «украденному» такое же отношение, как и потерпевший. Вот и крутили Руслана пару месяцев, пока мама его обивала пороги прокуратуры и управлений МВД с просьбой разобраться.
Пока мы с ним были в одной камере, скучать не приходилось. Даже несмотря на отсутствие нормальных программ по телевизору. Нам было о чем поговорить, что обсудить и чем позаниматься. В частности, иностранными языками. Нам даже не очень мешал еще один рецидивист, сидевший тогда с нами. Задачей которого был уже не я , а Руслан.
Через некоторое время мама все-таки добилась подписки для Руслана. Вместо него заехал Юра, парнишка с Борщаговки, занимавшийся гопстопом (разбойными нападениями на граждан на улице), уже успевший отсидеть где-то в воспитательной колонии (на «малолетке») С ним поначалу мне было не очень интересно. Все-таки после учредителя газеты это было далеко не то, что хотелось. Но через некоторое время мы даже подружились с этим Юрой.
Я, конечно, иногда удивлялся. Как можно нормально общаться с таким обезбашенным типом, особенно после того, что он рассказывал о своих способах зарабатывания денег. Но беспредельность его осталась на свободе. В тюремной камере он был вполне нормальным. Иногда даже в его разговорах прослеживалась мысль о том, что хорошо, что посадили. Пока не убил никого, или уж очень сильно не покалечил.
Его очень интересовало, как можно жить нормальной жизнью и что для этого нужно. Мои рассказы о бизнесе он слушал открыв рот. В свою очередь я от него узнал из первых рук, как живут в воспитательных колониях, как малолетки смотрят на «понятия», как происходила раньше «прописка» (прием нового арестанта в камере). Как они, цепляясь за слова, портят друг другу оставшуюся жизнь или доводят до самоубийства.
Для меня все описываемое им было дико, но познавательно. А кое-что даже пригодилось в дальнейшем. По крайней мере, что можно говорить в тюрьме, а что нельзя, как себя вести в колонии, как строить свои отношения с другими зэками, я лучше всего узнал от него. Те рецидивисты, с которыми я общался до этого, рассказывали в основном о своих заслугах, но особенно ничего не советовали. Как говорится, догадывайтесь сами. Да и биография многих из них не располагала к тому, чтобы следовать их рассказам.
Новый 1995-й год я встретил в 5-й камере. Запомнилась передача, которую организовала жена 31-го декабря. И отремонтированный телевизор. Дело в том, что недели за три до Нового года он поломался, и я передал его на свободу. Для того, чтобы Лена сдала его в ремонт. Осуществить этот процесс тогда тоже стоило определённых затрат и занимало время. Надо было писать заявление, его отправляли жене, она приходила в СИЗО, забирала телевизор и возвращала отремонтированным. В канун Нового года мы сидели без ничего. «На голяках», как говорят в тюрьме. Передачи получал один я, и поэтому вся надежда была на Лену.
Но до обеда «дачница» (женщина, выдающая передачи) к нашей хате не подходила, и мы уже находились в довольно расстроенных чувствах. Часа где-то в три, когда уже надежда почти умерла, вижу паука, спускающегося откуда-то сверху прямо к моему носу. Паук – к известию. Это все знают. Но поверил я в это только 31-го декабря 1994 года. Потому что не успел он опуститься к моей наре и уползти куда-нибудь в укромное место, послышался звук открывающейся «кормушки» (окошко в двери камеры, размером 15x20 сантиметров, сделанное для передачи еды, документов спецчасти, книг из библиотеки и передач от родственников). Назвали мою фамилию, спросили от кого передача, попросили автограф и, завершив выполнение необходимых формальностей, стали передавать продукты.
В те времена вес передаваемых продуктов не мог быть больше 8 килограммов. Если не доплатить при приеме передачи. На ту новогоднюю передачу моя жена потратилась серьёзно. Одних только огурцов с помидорами было килограмм пять. А еще все в тюрьме необходимое. Хороший цейлонский чай, шоколад и конфеты к нему, кофе, сахар, орехи с изюмом, колбаса, мясо копченое, масло, запаривающиеся вермишель и крупа, варенье в целлофановых пакетах (банки стеклянные и консервные на СИЗО не передавались). Предметы гигиены и какая-то одежда.
А еще через какие-то полчаса принесли и отремонтированный телевизор.
В это можно не поверить, но встречая тот Новый год, второй мой Новый год в тюрьме, я был абсолютно счастлив. Как чудесно было осознавать, что тебя любят и помнят. Ведь для того, что бы передать эту передачу Лене необходимо было в пять утра встать, приехать на Лукьяновку, купить нормальную очередь. По-другому тогда вообще невозможно было что-то передать, ведь местные бабушки на очереди в СИЗО делали бизнес. Занимали всё с вечера, а утром продавали свою очередь за немалые для того времени 5 долларов. Потом жене приходилось стоять до обеда, ведь людей перед Новым годом было немало, да и новогодние передачи досматривались гораздо тщательнее, чем обычные. Что занимало больше, чем всегда, времени.
Потом уговаривать передачниц взять денег за передачу не в восемь, а двадцать пять килограммов. А уж они могли при этом прополоскать мозги не хуже любого гаишника.
После чего еще ждать «замполита» (заместителя начальника учреждения по социальной работе со спецконтингентом) для того, чтобы написать заявление о передаче телевизора. Потом ждать, пока это оно будет подписано у начальника, и уже только тогда передать сам телевизор.
А уже после всего этого ехать домой. Вместо того, чтобы готовиться, как все нормальные люди к встрече Нового года. Это ли не доказательство любви? При том, что, как я уже писал, после росписи мы прожили пять месяцев. А после моего ареста Лену пытались, как и многих других, сделать соучастницей. Или как минимум, вменить ей статью 186 (знала и не сказала).
Прокуратура поступала иногда вообще по-свински. Моя жена, естественно, регулярно обращалась к старшему следственной группы с просьбой дать нам свидание. Но он отказывал. А потом как то звонит Лене, и говорит: «Вы свидание хотели? Если да, то приезжайте в прокуратуру». Бедная так обрадовалась, что бросила все и, не сообщив даже маме (моей теще), помчалась к следователю. Уж не знаю, что он хотел еще с ее помощью доказать, но вместо обещанного разрешения он сообщил, что она обвиняется по вышеуказанной статье и скорее всего будет задержана.
Вот такое свидание. Вечером теща начала волноваться. Как-то все таки узнали, что Лена поехала в прокуратуру. Срочно был вызван Александр Григорьевич, который её забрал оттуда . А вот был бы другой адвокат, неизвестно, чем бы закончилось. Но методы работы следственной группы запомнились надолго. И свиданий Лена больше у следователей не просила. Так и получилось, что увиделись мы уже после окончания следствия, через год, девять месяцев и девять дней с момента расставания.
Очень многих жены бросали и не при таких поворотах судьбы. Да и я сам иногда думал, вот если представить такую гипотетическую ситуацию, что я мог предвидеть то, что произойдет. И обсудил бы такой вариант с женой до свадьбы. А она сказала бы мне, что передачи в тюрьму носить не будет. И ждать тоже. Что бы я сделал?
Да все равно бы на ней женился. Во-первых, потому что любил её. А во-вторых, потому что мне жена нужна была не для того, чтобы из тюрьмы меня ждать. И передачи носить. Поэтому я с одной стороны слегка удивлялся происходящему , а с другой стороны просто кайфовал от осознания взаимной любви. Ради такого чувства даже казалось не обидно сидеть.
Следующий, 1995-й год запомнился одним происшествием и одним обстоятельством. Происшествие было такое. Единственный раз за все три года моего пребывания на Лукьяновке возникла у меня с одним из сокамерников конфликтная ситуация. В результате которой я пострадал физически.
Не помню уже точно, в каком из «тройников» я тогда находился. Кроме меня был еще парень моего возраста, сидевший приблизительно за то, за что могли бы привлекаться мои потерпевшие. Ни я у него, ни он у меня симпатии не вызывал. Но что делать, раз администрация решила, что мы должны быть в одной камере, так тому и быть. Все однако шло к тому, что не поссориться мы не могли.
Повод скоро возник. Телевизор. Точнее программа, которую смотреть. Не важно, что хотел я и что он, но вкусы наши не совпадали. Так как телевизор был мой, естественно, я считал что оснований у меня смотреть то, что я хочу, больше. Поначалу возникло небольшое словесное препирательство. Но продолжилось оно недолго, так как мой собеседник не умел, а поэтому не любил просто разговаривать. Он быстро воспользовался своим умением отправлять людей в нокаут, при помощи которого зарабатывал деньги на свободе.
Я же, наоборот, практического опыта бить и отбиваться не имел. Да и реакция тоже оставляла желать лучшего. Короче, помню, что его забрали из хаты появившиеся вскоре контролеры, а моя физиономия приходила в доконфликтное состояние еще недели две. Больше всего я тогда боялся, что жене дадут свидание, и она меня в таком виде увидит. Слава богу, на тот момент для свидания еще время не пришло.
Должен сказать, что у многих, находящихся в тюремных стенах, подобные ситуации возникают регулярно. Я же каким-то образом умел сглаживать острые углы в общении, находить общий язык с разными людьми и тем самым избегать серьёзных конфликтов. Описанное выше происшествие тоже могло и не произойти. Но почему-то именно в тот момент мне захотелось доказать самому себе то, что я тоже могу настоять на своем в случае необходимости. И то, что пацаны бандитской внешности как не пугали в жизни на свободе, так не пугают и в тюремной. Доказал. Хоть и ценой разбитого лица. В дальнейшем, однако, я уже всегда предполагал такое развитие событий. Может быть, поэтому этот случай стал единственным за мои три года в СИЗО.
А обстоятельство, про которое я хочу рассказать, тоже небезынтересное. Летом 1995 года я чуть не спился. Если бы это не происходило со мной, я никогда бы не поверил, что можно стать алкоголиком в тюрьме.
После 5-й камеры перевели меня в соседнюю, четвертую. Зеркальное отражение предшествующей. Такого же минимального размера. В этой хате познакомился я еще с одним рецидивистом (тоже 17 лет за спиной), который ездил из камеры в камеру с пластмассовым ведром. Это ведро составляло основную его ценность. В нем можно было варить самогон.
Технология проста как все гениальное. Сначала из пайкового хлеба делаются дрожжи. Для чего хлеб немного сбрызгивается водой и оставляется на двое суток под батареей. Там он плесневеет. Дрожжи готовы. У «баландёра» (осужденного, оставшегося отбывать срок в СИЗО и работающего в хозяйственной части) за сигареты покупаются несколько килограммов сахара.
Дрожжи заливаются сахарным раствором, прячутся под нару, где стоят еще двое суток и бродят. Потом, когда брага доходит до нужного состояния, её выливают в то самое ведро. Около дна в нем сделаны отверстия, в которые вставляются два кипятильника и герметизируются при помощи хлеба. В ведро на нитках подвешивается глубокая миска, а сверху натягивается целлофановый пакет. Ставится конструкция около умывальника, чтобы на целлофан сверху лилась холодная вода, пока брага кипятится.
Таким образом, на пакете пары спирта конденсируются и капают в миску. Минут за 40 нагоняется литр с небольшим. Градус продукта может быть аж до 60. Конечно, о каких то вкусовых качествах речь не идет. Но пьянеешь от него так же, как от обычного сельского самогона.
У моего нового сокамерника процесс был поставлен на поток. Дрожжи готовились, брага настаивалась, самогон варился каждый день. Точнее, каждую ночь. Потому что нельзя в тюрьме самогон варить. Однако ни дрожжи, ни брагу у него никогда не находили, в момент процесса никогда контролеры в камеру не заглядывали, да и по поводу дырявого ведра, которое ни для чего, кроме как для производства тюремной водки не годилось, вопросов к нему не возникало.
Нетрудно догадаться, что он тоже выполнял какие-то спецзадания. То, о чем люди не рассказывали на допросах и сокамерникам в трезвом виде, прекрасно вспоминалось после ста-двухсот граммов самогона. Я следствие к тому времени больше не интересовал, у меня оно уже заканчивалось. А вот другие наши сокамерники вполне могли быть интересны. Как, например, парнишка из Донецка, состоявший в какой-то группировке и сидевший тоже за вымогательство. Ну, а до того, как быть переведенным в мою камеру, он сидел с кем-то из киллеров-башмаковцев, которые покушались на крымского авторитета Дзюбу в Бориспольском аэропорту.
Я специально обращаю внимание на такие моменты. Если что-то в системе исполнения наказания запрещено, то глупо думать о хитрости некоторых арестантов, якобы позволяющую им обманывать администрацию. Наоборот, начальство тюрем и колоний до определённого момента делает вид, что чего-то не знает или не видит. На самом деле, пока нарушение того или иного запрета имеет какой-то смысл оно (нарушение) имеет место. Как только этот смысл исчезает, ситуация становится такой, какой она должна быть по инструкции. Если вникать в ситуацию и находить этот скрытый смысл, можно избежать многих проблем.
Вместе с самогонщиком я переехал из 4-й хаты в 95-ю, находившуюся в том же корпусе, только на четвертом этаже. За те два или около того месяца, которые я провел с ним в камерах, я стал почти алкоголиком. В принципе, понять пьянство в камере очень даже можно. После самогона жизнь не кажется такой уж мрачной штукой. А пьяные разговоры веселы и интересны. Ничего, что наутро (начиналось которое где-то не раньше четырех часов дня), болела то голова, то просто глаза, то другие органы. Ночью все повторялось, настроение повышалось, самочувствие улучшалось. И так ежедневно.
От полной деградации спасли две вещи. Первая – то, что от употребления некачественного продукта у меня началась болезнь, которую тюремные фельдшера и сокамерники назвали стрептодермией. Не буду утверждать, что это ее настоящее медицинское название. Внешне она проявлялась в виде гнойников, появляющихся по всему телу. Которые болели, плохо заживали, и пока исчезал один, появлялось еще три. Особенно много их было на руках, ногах и ягодицах. Жить стало почти невозможно.
Поначалу я не ассоциировал эту болячку с самогоном, продолжал бухать с «рициком» (рецидивистом) и надеялся, что мой иммунитет сам справится с напастью. Но организм отказывался справляться, особенно учитывая мои еженощные попытки его еще больше отравить. К тому моменту когда дальше терпеть уже было просто нельзя, кто-то из «лепил» (тюремный или зоновский фельдшер) сжалился надо мной и дал две капсулы антибиотика рифампицина (по-простому РЕФа).
Мне повезло, что до этого я никогда антибиотики не употреблял, и тех двух капсул мне хватило, чтобы все нарывы сняло, как рукой. Одну капсулу я выпил вечером, одну утром, и к утру следующего дня на месте болючих гнойников остались только красные следы. А вот эти то шрамы сохранялись еще наверное год .
Впоследствии я видел других больных стрептодермией. В основном наркоманов. Две капсулы РЕФа им не помогают. Их организм, ослабленный «ширкой» и тем, что такие традиционные для них болезни как гепатит лечат антибиотиками, не поддается такому простому методу. Им приходится страдать месяцами. Смотреть на это неприятно. Думаю, кто не успел стать наркоманом и увидел их мучения, в самых страшных своих фантазиях не представит себе возможность уколоться.
В принципе, от описанной болячки редко кто умирает (хотя бывает и такое). Как правило иммунная система рано или поздно с ней справляется. Но процесс этот, в отсутствии нормального света, свежего воздуха и витаминов может длиться долго. И все это время ни лежать, ни сидеть нормально невозможно. Больно даже просто передвигаться. Еще не рекомендуется мыться во время такой болезни. Поэтому можно представить себе, на что человек становится похож после пары месяцев стрептодермии.
Я сказал, что от алкоголизма меня спасли две вещи. Первая – болезнь, а вторая – то, что хозяина самогонного ведра отправили на разработку кого-то еще, и пьянство прекратилось само по себе. Конечно, будучи посвященным в технологию изготовления горячительных напитков в камерных условиях, я мог организовать производство и сам. Но, после воспоминаний о головной боли по утрам и гнойниках по всему телу, желания гнать и пить просто не было.
Как-то, на какие-то праздники, ставил я брагу и даже варил самогон. Но это было связано с проблемами. У меня милиция находила и дрожжи, и ведра с дырками для кипятильников, забирала все это и лишала передач. Без передач было сидеть гораздо скучнее, чем просто без самогона. Поэтому нездоровый образ жизни я больше не вел.
Вместо этого у меня появилась возможность увеличить свои познания в иностранных языках. В 95-ю камеру подселили ко мне настоящего араба. Из Ливана. С настоящим арабским именем Усама. О том, что Усама должно ассоциироваться с терроризмом тогда еще никто не знал (до 11 сентября 2001-го года оставалось еще шесть лет). Обвиняли моего нового друга в распространении наркотиков.
Он числился студентом университета и жил в общежитии на известной в Киеве улице Ломоносова. Торговлю наркотиками отрицал. Делал вид, что русского языка почти не понимает. В связи с этим очередному моему сокамернику с биографией (тоже, кстати, Немцу, уж больно часто встречающееся «погоняло») было непросто у араба что-то выяснить.
Со мной Усама поначалу тоже не очень охотно разговаривал, но общаться с кем-то надо. Тем более, что я говорил на английском лучше него. А потом еще и упросил позаниматься со мной арабским.
У меня до сих пор сохранилась тетрадь, в которой я учился писать арабской вязью. Занятие, между прочим, весьма занимательное. Первое, о чем я попросил араба, написать мне алфавит. Выяснилось, что алфавит как таковой (все буквы по порядку) он не помнит. Но все, что есть, написать может. Что и сделал.
Потом с его помощью я составил словарь самых употребительных слов и выражений. А затем попытался разобраться в грамматике. Родной арабской грамматики Усама тоже не знал, так как когда я просил его сказать мне какой-нибудь глагол в неопределенной форме, он говорил его с окончаниями. По этим причинам арабский язык я так и не выучил. Только немного разобрался в общей его структуре.
После 95-й камеры перевели меня в уже обжитую мной 5-ю, а после 5-й, где-то под конец 1995 года в 343-ю. Именно эта камера находилась в только что построенном корпусе, который и через сотню лет каждому обитателю Лукьяновки будет напоминать о том, что был в конце XX-го века такой политический деятель – Кучма.
Про то, что впритык к Столыпинке прилегает новый корпус, я уже знал. Как-то контролер, выводивший меня на следственные действия, из уважения к моему полуторагодичному пребыванию в СИЗО, решил провести мне короткую экскурсию. Он вывел меня из 95-й (напомню, на четвертом этаже Столыпинки) камеры и перед тем, как отвести меня к следователю поинтересовался, не хочу ли я посмотреть на хаты в только что сданном корпусе. Я ответил, что конечно хочу (хоть какое-то разнообразие!). Видно, что ему и самому, было интересно, и он мимо трех камер, находившихся на том же этаже, через открытую тогда еще решетку завел меня в новое крыло.
После привычных тройников, камера на Кучмовке показалась мне номером в пятизвездочном отеле. Покрашенная в терпимый песочный цвет, местами обложенная плиткой, с новыми толстыми матрацами и нарами с натянутыми пружинами она вызывала зависть.
Помню, как раз где-то в то время между Верховной Радой и Генеральной прокуратурой происходил какой-то конфликт, и я предположил, что наши политики готовятся таким образом к его развязке. Или первые посадят вторых, или наоборот, но камеры для себя готовят заранее.
Но после сдачи нового корпуса в эксплуатацию заселились туда все-таки не депутаты и не прокуроры, а обычные подследственные. И я в их числе.
Когда переезжаешь из одной камеры в другую, если они находятся на разных корпусах, матрац («вату» или «скатку» по тюремному), подушку, постельное белье и алюминиевую посуду необходимо там, откуда едешь, сдать, и там, куда переселяешься, получить. На каждом этаже находится каптерка, где сидит зэк из хозобслуги и занимается приемом-выдачей вышеперечисленного. Внешний вид этих нехитрых вещичек, которые положено выдавать арестантам, может напугать непривычного человека. Чтобы каптерщик выдал приличную «вату» необходимо дать ему сигарет. В противном случае на том грязном и вонючем куске ветоши, который когда-то, может, и был матрацем, спать будет никак невозможно.
Поэтому я очень удивился, когда поднялся на 4-й этаж и там без всяких сигарет получил совершенно новую толстую «скатку», такие же новые простыню и наволочку, блестящую тарелку и чашку («шлёмку» и «тромбон» соответственно). Да не только я , а еще несколько человек. А когда нас повели мимо 95-й хаты в сторону уже знакомого по «экскурсии» нового крыла я понял: повезло.
Правда, была и обязательная ложка дегтя в этой бочке меда. Новоселье вышло немного подпорченным. Дело в том, что в новой камере оказалась бракованная канализация. Стоило один раз сходить в туалет («на дальняк»), как он забивался и в него набиралась вода (а водопровод сделан таким образом, что из раковины она течет прямо туда). А потом стекала вообще на пол. Комфорта это не добавляло.
Первую неделю в 343-ей хате нам приходилось два раза в день звать контролера, чтобы он выводил нас в туалет на этаже. Приходилось пол дня терпеть, потом час просить нас вывести, потом думать, когда опять придется его звать. Но в этом тоже был какой-то элемент разнообразия, который скрашивает в тюрьме жизнь.
Неделю начальство решало, что же делать с забитой трубой. Обычными методами она не прочищалась. Возможно, что зэки, строившие корпус, сбрасывали в «дючку» (унитаз) битый кирпич, песок и другой строительный мусор. Наконец сантехники (тоже осужденные) притащили что-то вроде компрессора, продули канализацию, при чем забрызгали всю камеру содержимым, и мы получили возможность оценить все прелести жизни в новой хате. После тщательной уборки.
В 343-й камере я провел месяца четыре, может даже больше. Там я встретил еще один Новый год, оттуда поехал на первое заседание суда.
Когда у человека начинаются суды, его уже нет повода держать в тройниках. Меня тоже перевели в камеру, которая побольше чем на четыре или шесть человек.
Первая моя, как говорят в тюрьме, общая, хата – 193 – была рассчитана на двенадцатерых. Содержалось в ней когда сколько. Бывало 14, бывало 9. Это были уже не подследственные, а числящиеся за судами. О двух достойных внимания арестантах я помню и по той камере.
Один, тогда еще молодой человек, был на момент ареста учредитель и генеральный директор авиакомпании. Название которой, как имя и фамилию его, я помню до сих пор. Писать не буду, так как он и сейчас президент фирмы-авиаперевозчика.
Но к 1996-м году, когда я познакомился с ним в камере 193, он находился под следствием уже полтора года. По обвинению в организации контрабанды. Суть этой организации заключалась в том, что пилоты самолетов компании при полетах за границу постоянно имели с собой валюту. На случай непредвиденных расходов. Поломка самолета, от чего перестраховаться невозможно, влекла за собой задержку вылета, а это, в свою очередь, требовало оплаты стоянки в принимающем аэропорту. Межгосударственные переводы денег проходили тогда не так, как сейчас, а гораздо дольше, и на такие случаи у экипажа всегда имелись деньги.
Это происходило постоянно и никаких вопросов ни у кого не вызывало. До того момента, пока один человек, президент другой, бывшей государственной авиакомпании, не решил, что работающий и развивающийся бизнес пора забирать под себя. А компания моего сокамерника действительно была довольно перспективной. Он одним из первых начал дешево возить наших челноков в Италию и Турцию самолетами. До того они ездили в основном автотранспортом.
Началось все с рейса в Анкону. Как он мне объяснял, туда потому, что к тому моменту наши «туристы» добрались и изучили на предмет мелкооптовых закупок именно этот итальянский городишко. Потом был второй маршрут, третий. И к 1994-му году компания уже осуществляла рейсы в Италию, Турцию, Польшу и даже Таиланд и Китай.
Самолетов своих поначалу не было. Использовались арендные одного из оставшихся от Советского Союза региональных авиаотрядов. Кстати, именно в этом и была первоначальная идея всего бизнеса. На связях, выработанных за время учебы и работы в комитете комсомола договориться об аренде простаивающих АН-24 и ЯК-40 и летать на них за границу. Потом несколько старых самолетов было выкуплено, и уже шла речь о приобретении новых лайнеров.
Это уже был серьезный бизнес и он начал составлять конкуренцию большим авиакомпаниям. Что не осталось без внимания. От упомянутого выше президента полугосударственной структуры поступило предложение, влиться в неё отдельным подразделением. С потерей самостоятельности. Предложение было отклонено, что, естественно не понравилось предлагавшему. В качестве перспективы был описан вариант, при котором мой знакомый садится в тюрьму, а бизнес его поглощается не только с потерей самостоятельности, но и с потерей какого-либо вообще участия в доходах от него.
В такой вариант не верилось, так как нужные связи были с обоих сторон. Но более нужные, в лице руководства СБУ, оказались не у моего знакомого. В один, далеко не прекрасный, момент, арестовали его, как Генерального директора компании и организатора контрабанды валюты. Попал также и главный бухгалтер компании. В качестве соучастника.
Защищали их не только адвокаты. Все сотрудники компании писали коллективные письма, проводили демонстрации под зданиями прокуратуры и СБУ. Поначалу, правда, даже это не очень помогало.
Арестовать человека гораздо проще, чем впоследствии его освободить. Для того, чтобы нашлись основания к прекращению уголовного дела и освобождения необходима смена людей, которые принимали решение про арест. При чем не только непосредственных чиновников, подписи которых стоят на ордерах, а тех, кто сверху это заказывал. Ведь если выясняется, что человек провел в СИЗО время без достаточных на то оснований, лица за это ответственные должны быть наказаны. Причем тоже, вплоть до уголовной ответственности.
А кто же будет наказывать своих?
Правда, как и все теневые решения, такой арест очень не любит освещения. А в случае с директором авиакомпании дело приобрело особенный резонанс после того, как в тюрьме от инфаркта умер главбух.
Это был далеко еще не старый мужчина и не в условиях СИЗО ему оказали бы необходимую помощь. Однако, тюремная обстановка и отсутствие своевременной помощи вылились в то, что произошло.
В связи с таким событием дело о контрабанде еще шире стало освещаться в прессе и в на телевидении. И это привело к тому, что влиятельные люди со стороны моего знакомого получили достаточно оснований для разговора с влиятельными людьми с противоборствующей стороны.
В дальнейшем я слышал, что несмотря на то, что прокуратура требовала наказания в виде десяти лет лишения свободы и первая инстанция даже приговорила авиатора к какому-то сроку, в итоге он и его компания все-таки добились его освобождения.
История еще одного моего сокамерника по камере 193 тоже связана с переходом собственности из рук в руки. И это был директор. Но не вновь организованной фирмы, а крупного киевского завода, находящегося на Куреневке. Ему вменяли получение взятки. В виде поездки в Тегеран.
Дело выглядело так. Он сдавал в аренду под магазин площадь на территории завода. Арендатором был иранец. В процессе их сотрудничества последний пригласил арендодателя посетить свою страну. Тот, будучи уже не молодым бизнесменом, а руководителем еще советских времен, оформил поездку как командировку от министерства. На что имелось подписанное министром предписание. И ездил он в ту поездку не сам, а с кем-то из министерства.
Но это не помогло. Со времени посещения Ирана прошло около года. И хоть он этого не озвучивал, я понял, что просто встал вопрос о приватизации предприятия. Кому сколько. В разделе имущества консенсуса достигнуто не было, и противоположная нашему директору сторона решила задействовать свои связи в правоохранительных органах. По прямому назначению – для охраны своих прав. На разделяемую собственность.
Надо было что-то предъявить, и после недолгих поисков повод был найден. Поездка в Иран. У иранца взяли необходимые показания. Сделать это было, понятно, не тяжело. Когда у человека тут бизнес, жена и дети, а гражданства нет, сотрудникам прокуратуры убедить его подписать то, что необходимо, проще простого.
Не знаю, сколько получил и когда освободился директор, но думаю, что на приватизацию он опоздал.
Эти две истории лишний раз свидетельствуют о том, что от тюрьмы и вправду никто не застрахован полностью. А еще менее застрахованы люди, которые что-то пытаются делать, организовывать и зарабатывать деньги. Ведь очень тяжело предвидеть, как будут действовать конкуренты или просто недоброжелатели. Кто-то может положить глаз на твой бизнес и какие у этого «кого-то» окажутся связи.
Даже если имеются знакомые в милиции, прокуратуре или СБУ, может оказаться, что у «кого-то» знакомые на более высоких должностях.
Так что же делать, возникает вопрос. Я не знаю на него точного ответа. Как не знает и никто другой. Но кое-какие мысли мне в голову все-таки приходят.
Думаю, что для начала необходимо знать, у кого может возникнуть идея отнять у вас собственность. Старые недруги или новые конкуренты. Очень часто и те, и другие никакого секрета из своих связей не делают. А даже если и делают, при желании этот секрет можно раскрыть. Информация об этих связях очень поможет в предвидении проблем. Чем выше их контакт, тем сложнее справиться с потенциальной угрозой. Точнее, дороже.
Однако, если захотеть, реально выяснить также, кто может стать противовесом связям конкурентов в той структуре, где эти связи имеются. И уже вопрос наличия средств, выход на этот противовес. На чиновника, который вовремя мог бы по-дружески решить с «вражеским» чиновником вопрос. И таким образом заставить конкурента решать спорные вопросы другим способом.
Понятно, что в нашей стране в данном случае экономить никак нельзя. Как говорится в народе, от жлобства одни неудобства! Потому что окажется прав в конце концов тот, кто больше заплатит. При этом всегда надо помнить, что в случае возможного ареста, на освобождение уйдет гораздо больше средств, чем на налаживание нужных связей вовремя.
Как уже писалось, суд над нами начался еще когда я сидел в 343 камере. Правда, как принято в нашей системе судопроизводства, ускорять процесс никто не стремился. Первые несколько заседаний, как и положено, вообще не состоялись. Где-то с третьего только процесс действительно пошел. Но сами по себе поездки из СИЗО в здание Киевского областного суда уже представляли собой какое-то разнообразие. Я, как и мои подельники были рады даже такой возможности на день покинуть стены своих камер, пройти по подземельям, сесть в воронок, проехать по городу, пусть даже не видя ничего из автозака. Ну, а то, что во время заседаний была возможность увидеть родных и близких, даже поговорить через решетку клетки и спины конвоиров, заставляло нас ожидать дней заседаний с нетерпением.
Эту тюремную романтику вряд ли забудешь. В половину шестого утра подходит к «кормушке» контролер, называет твою фамилию и говорит крылатую фразу «с вещами». (Вещи, правда, в дни судебных заседаний никто с собой не брал. Возвращали вечером в ту же камеру, откуда утром забирали). Ты не торопясь встаешь, умываешься ( а я еще и обливался холодной водой для бодрости), пьешь традиционный крепкий утренний чай, съедаешь какой-то бутерброд и в сопровождении подошедшего контролера из камеры идешь в отстойник на этаже. Там минут за двадцать собирается определённое количество человек, которых уже всех вместе ведут в подземные боксы.
Потом шмон и посадка в автозак. Минут сорок езды от Лукьяновки до Владимирской улицы. После чего в сопровождении конвоя, с сопровождающими криками «Увага, варта!» переход из воронка в очередной бокс, только уже в здании суда.
Ну, а дальше, уже как повезет.
Если все, то есть судьи, адвокаты и прокурор, собрались, заседание начиналось и могло длиться с утра и до четырех часов дня с перерывом на обед. Во время этого перерыва родные имели, как правило, возможность через конвойных с разрешения начальника караула передать какой-то домашней еды. А за дополнительную плату и не только еды. Обедали мы прямо в той же клетке, где и сидели во время заседания.
Если не везло, что тоже бывало достаточно часто, и кто-то из участников процесса не мог появиться по каким-то причинам, мы сидели по боксикам до трех часов дня, после чего нас сажали в воронок и везли обратно в СИЗО.
Несмотря на то, что теоретически каждый из нас мог получить высшую меру наказания, всерьез это никто не воспринимал. Все хотели максимально быстрого завершения процесса, который продлился в итоге полгода. А сами поездки на суды постоянно были связаны с какими-то новыми встречами, новостями и довольно-таки смешными ситуациями. Одна особенно запомнилась.
Наш подельник Паша, тот самый, который не согласился на нас наговаривать и получил за это восемь лет, к моменту одного из заседаний находился больше недели в карцере. За какие-то нарушения. Зная, что назначено заседание и родители обязательно принесут передачу с домашними продуктами, он решил ничего там (в карцере) не есть, дождаться суда и оторваться по полной программе.
Так и сделал. Голодал неделю. Приехал на суд, еле досидел до обеденного перерыва, а потом как набросился на все принесенные продукты. Не делая различия между молоком, рыбой, курицей гриль и солеными огурцами. Мы, зная о его наполовину вынужденном воздержании, пытались его как-то отговорить. Чтобы не ел он все подряд. Тем более с таким фанатизмом. Но нас Паша не послушал. «Пусть, - говорит, - мне будет плохо, но это потом. А сейчас получу максимум удовольствия».
«Потом» настало очень быстро. До конца заседания он тогда еще досидел. Но в воронке, во время езды из суда до тюрьмы все им съеденное оказалось на полу и стенах. В той машине было два отделения для перевозки арестантов. Трое из нас ехали в одном, трое, соответственно, в другом. Хоть я и находился не в одном с ним боксе, но крики и матерные выражения, сопровождающие звуки, характерные для отторжения непринятой организмом пищи, были слышны очень даже хорошо. Даже несмотря на то, что звук внутри движущегося воронка сравним со звуком, который мог бы быть внутри консервной банки, которую тащат по асфальту на веревочке.
Из машины он вышел белый как снег и очень слабый. Не без нашей помощи добрался до подземных боксов. Принимая во внимание его состояние, особенно не обыскивали. Тем более, что в карцер ничего с собой взять он не мог. Ну а за оставшиеся «на яме» дни дальнейшее воздержание помогло Паше вернуться в нормальное состояние.
Еще остались в памяти от того периода некоторые наши, так сказать, «коллеги». Другие арестанты, судили которых в том же здании, что и нас. А находилось в нем тогда два суда, Киевский городской и Киевский областной. Это такие инстанции, которые не судят кого попало. И там, и там рассматриваются только дела, санкция статьи по которым в те времена была до высшей меры наказания (расстрела).
Одним воронком с нами очень часто ездили знаменитые предводители «Белого братства», Кривоногов, Мария Дэви-Христос и третий их подельник, Петя, кажется. Именно тогда я своими глазами убедился, что такие дела в большинстве своем раскручены и пропиарены специалистами. Ведь какие ходили слухи про их организацию и первых лиц? Что прекрасно знают психологию, обладают навыками гипноза и запросто подчиняют себе волю людей.
Но при ближайшем рассмотрении Кривоногов оказался кем-то, напоминающим обычного бомжа, а Мария довольно таки приятную на вид девушку, которая выбрала для себя такой способ зарабатывания средств существования – не разочаровывать доверчивых бабушек и домохозяек в их вере и ожиданиях и не отказываться от денег, предлагаемых ими. На том же уровне знакомы с психологией и многие политики. Только собирают они не деньги, а голоса на выборах. Что же касается третьего – «апостола Петра», то это был вообще вполне нормальный молодой парень, который был вынужден поддерживать образ, ими втроем и придуманный.
Первый раз, когда мы ехали одним воронком на суд, они еще вызывали наше любопытство. Но кто-то из сидевших с Кривоноговым в одной камере описал его образ жизни, который выражался в постоянном сидении на «пальме» с перерывами на туалет и еду и полном отсутствии интереса ко всему происходящему. Это совпадало и с его внешним видом - всклокоченными грязными волосами, торчащей бородой и рваной одеждой Стало понятно, что слухи преувеличены. В дальнейшем внимания на него мы уже не обращали.
Гораздо больше интереса вызывали обвиняемые по другим делам, связанным с убийствами. В частности, областной суд судил тогда еще шестерых человек, у которых было «четыре с половиной» «барана» (то есть трупа). Четыре с половиной потому, что четыре совершенных убийства и одна попытка. «Паровозом» (то есть первой по делу) у них была женщина, Людмила Ивановна (так кажется ее звали). Возрастом она была на тот момент лет где-то сорока пяти. Первый эпизод у неё выглядел так. Одна её знакомая написала ей доверенность на автомобиль «Таврия». Людмила настолько привыкла к машине, что решила её не возвращать. И хотя хозяйка «Таврии» её даже еще не требовала, Люда решила перестраховаться, для чего подпоила подругу клофелином. До смерти. Интересно, что тогда даже не возбуждали дело, все выглядело, как естественная смерть от сердечной недостаточности.
Прошло года полтора. Люда открыла предприятие. Туристическую фирму. Оформляла поездки в Венгрию для приобретения там автомобилей. Сопровождала клиентов в поездках. Не знаю, сколько всего людей при помощи её фирмы удачно побывали заграницей, но известно, что один из клиентов из поездки не вернулся.
Машину, а именно «Жигули» ВАЗ-2104, он купил. Там эта машина, как когда-то «Таврия» тоже была оформлена на Людмилу. Она убедила его в простоте переоформления автомобиля через нее в Киеве. И как не трудно догадаться, всю обратную дорогу она поила беднягу клофелином. Мужик, правда, оказался здоровый, и от одного только клофелина не умер. Cпал, правда, постоянно. Пришлось ей уговаривать своего водителя и еще одного сопровождающего знакомого убить владельца «четверки» обыкновенным молотком. Для этого они съехали с трассы между населенными пунктами и в лесу лишили несчастного жизни.
В личных разговорах, а я с обоими из них сидел в разное время, они убеждали в том, что Люда владеет гипнозом не хуже Кривоногова. Говорили, что и сами не могут понять, как пошли на такое. Хотя скорее всего, сила внушения была равна силе представления суммы денег, трети от стоимости машины. Для них эта сумма была очень даже неплохая.
Вернулись они в Киев с автомобилем, но без того, кто его купил. Однако, на этот раз все гладко не прошло. Жена потерпевшего начала волноваться и интересоваться у хозяйки турфирмы, куда делся её муж. Поначалу она, конечно, верила, что тот остался в Венгрии еще на какое-то время с целью купить еще одну машину. Но дни шли, а новостей не было. И в тот день, когда она таки решила подавать в милицию заявление, Люда пришла к ней домой и её тоже напоила клофелином.
Правда, для этой женщины обошлось больницей. Ей очень повезло, мама вовремя вызвала скорую.
Из Москвы приехала сестра и начала интересоваться, что же происходит. Людмила Ивановна не смогла напоить клофелином и приехавшую из Москвы родственницу потому что у последней были основания не доверять ей вообще. Поэтому Люда, не помню уже как, заманила её в машину, где подельники и задушили несчастную. Интересно, что душил непосредственно отчим Люды, дедушка, которому к тому времени было уже около семидесяти лет. Дедушка этот сидел со мной в «осуждёнке» (камеры, где содержатся уже осужденные, ожидающие отправки в колонию). Он получил восемь лет, с учетом его возраста.
Интересно то, что даже на основании показаний оказавшейся после клофелина в больнице женщины, её матери и исчезновения сестры, Людмилу не арестовали. Она каким-то образом умудрялась убеждать милиционеров, некоторые из которых были её знакомые, что к исчезновению не имеет отношения. Но один все-таки начал что-то понимать. Он то и оказался у Люды и компании последним потерпевшим. Его каким-то образом заманили в лес между Лесным массивом и Троещиной и там забили насмерть молотком, тем более, что опыт уже был.
Но, понятное дело, в том, кто убил милиционера, разобрались быстро. А после этого раскрылись все исчезновения, выяснились причины всех смертей. Аж до произошедшей за полтора года до того.
Государство оценило заслуги Людмилы Ивановны. Ей дали высшую меру наказания. Помощникам её – кому сколько. В основном от 13-ти до 15-ти лет. Дедушке-отчиму, как я писал уже, 8. Но тут мало кто стал бы спорить, что не было за что.
Как было за что и у другой компании в количестве пятерых пацанов. Тех судил Киевский городской суд. У них тоже было четыре с половиной трупа.
Я читал их обвинительное заключение (в двух томах) и удивлялся. Как люди, которые с такой легкостью убивали людей, могут быть вполне нормальными в общении. Их «подвиги» начались с того, что один из них, малолетка, обокрал кого-то из своих знакомых, таких же малолеток. Последний попытался напугать обокравшего своим дядькой, который только что освободился из колонии.
Пацан испугался и рассказал про угрозы своим друзьям, основным участникам процесса. Они тоже испугались, но их испуг выразился в том, что было решено просто замочить страшного дядьку-зека. На всякий случай. Что и было сделано. Повесили беднягу в его собственном гараже. Потом не помню уже при каких точно обстоятельствах, убили его брата и отца.
И, что особенно запомнилось, жену брата. Ее поймали во дворе дома, насильно посадили в машину, отвезли за город не особенно далеко и там зарезали. При чем от описания событий становилось не по себе. Вот, например, один только момент. Когда несчастная уже не подавала признаков жизни, один из участников спрашивает другого: - «Витек, посмотри, она еще живая?». Витек подходит к лежащему телу, непринужденно еще раз перерезает ей горло ножом и говорит: - «Теперь точно неживая!».
Таким образом парни пытались сделать так, чтобы никто ни о чем не догадался. Убирали потенциальных свидетелей. Последним таким свидетелем должен был стать тот самый малолетка, с которого все и началось. Он проходил у них по делу одновременно как обвиняемый в соучастии по первым эпизодам и как потерпевший по последнему. Видя, что события закрутились уж очень лихо, он стал подавать явные признаки паники и желания пойти сдаться. Серьёзные парни решили убрать и его. Но не успели.
В камерах почти каждый из них грозился наказать стукача «по всей строгости понятий». Но, проездили они на суды не меньше нашего, там, естественно, встречались, сидели в одной клетке. Дальше высказываний дело уже не пошло. Оно и понятно. СИЗО – не свобода. Так легко в нем кого-то наказать, а тем более убить, почти невозможно.
Само собой, что каждый из них «был не при делах» и виноватым в произошедших событиях считал кого-то другого. Суд в конце концов виновными признал их всех. Некоторых, двоих кажется, до высшей меры.
Происходящие параллельно с нашим судебные процессы интересовали нас не из чистого любопытства. Очень волновал вопрос, насколько просто судьи приговаривают подсудимых к расстрелу. И только ли от обстоятельств дел это зависит. Или от личностей тоже. Какого-то однозначного вывода я тогда не сделал.
Запомнилось, что таких приговоров тогда было много. Я связывал это с тем, что в начале 1996-го года вступил в силу мораторий на исполнение смертной казни. Но как раньше к ней приговаривали, так продолжалось и дальше. Более того.
Любой судья, рассматривающий подрасстрельное дело и выносящий такой приговор должен испытывать определённые чувства. По крайней мере так хочется думать. Понимая, что решая лишить жизни человека, пусть совершенно ненормального, убийцу, он сам становится таким же. Только от имени государства.
Если же таких чувств нет, то этот судья даже хуже тех мрачных типов, которых я описал. Последние все осознавали, что убивать безнаказанно практически невозможно. Некоторые хотели в это верить, но будучи арестованными, совсем не удивлялись тому, что везение закончилось. Судья же знает, что даже в случае ошибочного приговора (например в случае сфальсифицированных доказательств и выбитых показаний) и расстрела невинного человека ему грозят максимум муки совести. И выносит он решение исключительно так, как она (совесть) ему позволит.
До моратория возможные угрызения совести некоторых судей все-таки слегка тормозили. Но в период его действия служители фемиды зная, что убийцами они уже не станут («А-а, все равно не расстреляют!), начали раздавать высшие меры как конфеты. Почти по каждому процессу две-три.
В СИЗО, однако, насчет исполнения смертной казни ходили разные слухи. Говорили, что мораторий только для Европы и общественного мнения. А на самом деле расстрелы продолжаются.
Летом 96-го года, будучи уже осужденными, мы ознакамливались с протоколами судебных заседаний. Андрей, Саня и Леха сидели в камерах смертников. Так вот даже они толком не знали, чего им ждать. Расстреляют или нет?
Камеры, в которых содержались приговоренные к расстрелу, рассчитаны были на двух человек каждая. Находились в отдельном крыле корпуса «Катька», на втором этаже. Помню, что Андрюха как-то раз пришел на ознакомление сам не свой. Он был уверен, что его однокамерника забрали на расстрел. Расстреляли его или нет, неизвестно. Но про того осужденного больше никто из нас не слышал.
К марту месяцу 1996-го года наш процесс подошел к концу. Все необходимое зачитали, всех выслушали, подсудимые сказали последнее слово. Суд удалился на совещание, длилось которое три недели. Приговор был назначен на первое апреля.
Как я уже писал, при всех выявленных обстоятельствах, в возможность хоть одной высшей меры наказания по нашему делу никто из нас не верил. Запрос прокурора, правда, слегка озадачил. Выше я приводил выдержки из его выступления. Сказанное было в нашу пользу. Мы смогли убедить даже его во многом из того, что хотели доказать. Но несмотря на это, он попросил суд приговорить четверых из нас к высшей мере наказания, меня к пятнадцати годам лишения свободы, из которых первые пять в тюрьме (та самая «крытая») и Пашу за несговорчивость к десяти годам колонии усиленного режима. Было понятно, что выступал он от своего имени, а наказание запрашивал от коллегии прокуратуры.
Про то, как наша «шестерка» возвращалась с «запроса» (так коротко называют последнее перед приговором заседание), еще потом несколько лет ходили рассказы. Уж больно мы веселились. Один парень, находившийся с нами в «боксике», спрашивает другого:
- А что это за пацаны?
Тот, немного с нами знакомый, отвечает:
- Это «областная шестерка», Адашев и компания.
- А чего они такие счастливые, на свободу что ли идут?
- Да нет, наоборот, с запроса едут.
- И сколько запросили? Условно?
- Да, почти. Четыре «вышки»!
- ?!?!?!
Не знаю почему, но после «запроса» меня опять перевели в «тройник». 75-й. Там были двое ничем не примечательных малолеток, для которых с моими двумя отсиженными в СИЗО годами я был кем-то вроде Лёсика для меня в 94-м году.
Три недели до первоапрельского приговора пролетели очень быстро.
И вот, наконец, 1-е апреля 1996-го года. Людей собралось много. Гораздо больше, чем на обычное заседание. Наши родственники, родственники потерпевших. Друзья, знакомые и еще какие-то люди. Было даже телевидение. Передача «Черный квадрат» телеканала «Киев».
Поменялся и конвой. Вместо обычных вэвэшников нас сторожили бравые, как на подбор, парни из Национальной гвардии. «Краповые» береты. Настолько суровые, что в день приговора мы остались без домашнего обеда. Их начальство оказалось неподкупным.
Приговор оказался достойным даты его оглашения. Такой себе первоапрельский черный юмор. Три высших меры наказания (расстрела). Андрею (бывшему студенту истфака КНУ им. Шевченко), Александру (бывшему лейтенанту СБУ) и Алексею (студенту Военного института управления и связи, само собой тоже бывшему).
По пятнадцать лет лишения свободы в колонии усиленного режима Сергею (другу Саши и Леши по спортивной секции) и мне. Только ему с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а мне – двух (суд смилостивился! «Запрос» то был - пять).
Ну и Паша. Отделался, можно сказать, легким испугом. Восемь лет «усилка» (так сокращенно называют усиленный режим).
Жена мне рассказывала, что после оглашения приговора подошла к прокурору. Тому самому, который участвовал в процессе. И задала ему вопрос, считает ли он это нормальным. На что он, глубоко вздохнув, ответил ей: «Что же ты хочешь, дочка? Нет в этой стране справедливости».
Мне часто потом задавали вопрос, каково было мое ощущение после окончания суда. Что чувствуешь, получив пятнадцать лет? Все уверены, что должен был я быть в шоке. Но, вспоминая всю мою биографию в местах лишения свободы и самые мрачные её моменты, не могу сказать, что день приговора входит в их число. Гораздо грустнее было в день ареста. Как меня привезли на КПЗ в Бровары и поместили в «обезьянник», у меня слезы на глаза навернулись и комок к горлу подступил. Из жалости об утраченных жизненных радостях и от огорчения из-за разлуки с молодой женой. Правда и тогда это состояние продолжалось не больше часа.
Ну, а после оглашения приговора я вообще не испытал никаких излишних эмоций. Да что говорить обо мне. Подельники мои, «смертники» с этого момента, тоже не выглядели особенно шокированными. В расстрел не верилось, даже несмотря на приговор. Чувство юмора по-прежнему не покидало.
Из здания областного суда последний раз мы возвращались отдельным воронком. По прежнему шутили, рассказывали анекдоты. Один особенно запомнился. Рассказал его Андрюха, ехавший уже закованный в наручники, как и положено «смертнику». Знал он анекдот этот давно, но держал к случаю. Как раз к такому.
Так вот. Едут трое с приговора. Один грустный такой. «Пять лет, - говорит, - дали!». Второй вообще в шоке. «Десять лет усиленного!». А третий едет, улыбается.
Его спрашивают: «Ну а ты сколько получил?» Тот отвечает: «Не могу понять! «Вышка» какая-то. Наверное, вас сторожить буду!».
Камера, в которую я попал в качестве осужденного, имела номер 147. Это была уже обычная «общая» хата, человек на сорок. Корпус «Екатериновка» Для осужденных «тройники» не предусмотрены. В тот же день с приговора в 147-ю камеру заехал молодой парнишка, лет18-ти. Выглядел он, правда, не старше 13-ти. Дали ему10 лет. За изнасилование. Именно на него поначалу было обращено все внимание обитателей хаты. Во-первых потому, что насильников не очень уважают, мягко говоря. А во-вторых потому, что уж очень он был шокирован своими десятью годами приговора. Почти плакал.
Камерные авторитеты стали выяснять кого и как он изнасиловал. С целью решить, кем ему жить дальше. Не секрет, что большинство насильников после тюрьмы становятся «петухами», в лучшем случае «чертями» (такая себе категория зеков, еще не «петухи», но нормальные «мужики» с ними чай не пьют). Он дал на изучение свой приговор. Кстати, это меня всегда удивляло. Различные «смотрящие» камер, авторитеты и блатные, вслух проповедующие ненависть к мусорам (то есть всем начиная от участковых через оперов, следаков, прокуроров до судей и работников системы исполнения наказаний), говорящие, что «веры им нет», очень даже верят написанным обвинительным заключениям, приговорам и другим официальным документам. В особенности если «петуха» в хате не хватает.
Но не все так мрачно. Зависит от конкретных людей в каждом конкретном случае. В тот раз, при прочтении приговора упомянутого «насильника» возникли большие сомнения насчет его объективности. Сообщалось, что за один вечер, а точнее часа за два, он смог совершить половые акты со своей знакомой и её подругой против их воли. Происходило это в подъезде 16-ти этажного дома. Якобы он один вытянул их обоих из квартиры и начал иметь сначала на лестничной площадке, потом в лифте, потом на чердаке, потом на крыше дома. Пока насиловал одну, вторую держал за ногу. Чтобы не уползла. Потом наоборот, вторую насиловал, первую держал. Кончил, судя по материалам дела, раз восемь. Прямо сексуальный гигант.
Внешне, повторюсь, он далеко таким не выглядел. Сам он рассказывал, что девчонки были на него за что-то обижены и придумали такой вариант его наказать. С одной из них у него действительно были отношения, но к другой он вообще никогда не прикасался. Но «потерпевших» двое, он один. Их заявлению поверили сразу. После «общения» с операми он конечно же подтвердил все свои необыкновенные способности в плане секса. И как потом на суде ни пытались показать всю нереальность первоначальных показаний, как ни путались девчонки в своих рассказах, дело было сделано.
Если бы у паренька был папа или мама побогаче, получил бы он условно. А то и вообще дело закрыли бы (уж больно по-дебильному оно было написано). Но в данном случае папы не было с самого начала, мама работала где-то в школе, и на свою зарплату работника сферы образования ей было не потянуть услуги работников сферы правоохранительной.
Так что в камере он поначалу плакал, просился к маме и вообще вызывал жалость. Камерная сходка решила, что он не насильник, наказывать и ломать жизнь ему не за что. Постановили, что путь живет кем сможет.
Рассказ про него закончу тем, что я помог написать ему кассационную жалобу и, бывают же такие случаи (а может и мама таки насобирала денег на кассационную инстанцию), городской суд приговор его отменил. В конце концов получил он три года.
В отличие от малолетки «насильника», я вошел в 147-ю камеру в нормальном, даже в какой-то мере приподнятом настроении. Мне огорчаться особенного смысла не имело и я радовался тому, что наконец-то закончились суды и появилась какая-то определённость. Ясна была и задача на ближайшее время. Она состояла в том, чтобы написать кассационную жалобу. Как можно более убедительно.
Со «смотрящим» и его «семейниками» я быстро познакомился, они про меня и моих подельников слышали. Поэтому никаких проблем при обживании новой для меня «общей» камеры не возникло. Само собой, что после двух с половиной годов нахождения под следствием и за судом я неплохо ориентировался в отличиях «общих» хат от «тройников». Могу вспомнить, однако, несколько довольно щекотливых моментов.
Например. Если в маленькой камере принято убирать её по очереди и никто не считает неприемлемым заниматься этим, то в большой согласие взять в руки веник и тряпку может испортить дальнейшую жизнь. Уборка происходит так. Утром во время проверки ДПНСИ (дежурный помощник начальника следственного изолятора) назначает первого попавшегося ему на глаза зека дневальным камеры. Он, по идее, и должен подмести её и помыть. Но если кому-то это сделать довольно просто («шнырям», «чертям» и «крысам»), нормальному мужику, а тем более «блатному» или «стремящемуся» это «в западло». Но и насильно заставить кого-то тоже нельзя. Это будет беспределом.
«Смотрящий» и его приближенные имеют, как правило собственных «помощников», или, как их еще называют, «младших семейников» («шестерок» в общем понимании), Они и помоют за них камеру, и поесть приготовят, и даже постирают. А вот другим «порядочным арестантам», которым и самим бегать с тряпкой нежелательно, и постоянных помощников нет, приходится договариваться с теми, кому «не в западло».
В каждой большой камере обычно есть персонажи, которые за пару сигарет не откажутся поубирать вместо кого-нибудь. Но бывает и такое, что, кроме «младшего семейника» смотрящего, в камере нет такого человека. В таком случае надо договариваться с упомянутым камерным авторитетом. Если арестант придерживается понятий и ведет порядочный образ жизни, то есть со взносами в «общак» было все в порядке, решить этот вопрос можно без проблем. Ну, а если нет? Скорее всего, быть такому зеку тоже впоследствии «шнырём».
Вроде бы почему так? Ну выполнил человек то, что должен был по правилам пребывания в СИЗО, ну помыл камеру когда был назначен дежурным, что же из этого. А оказывается, что когда в следующий раз опять не будет тех, кому «понятия» позволяют брать в руки тряпку, а уборку делать надо, того человека и попросят это сделать. Но уже вместо кого-то. Раз не «в падло» было за себя, не может быть «в падло» за кого-то порядочного. И если у человека слабый характер, отказаться будет очень тяжело, почти невозможно.
Бывает еще так, что есть такой человек в камере, даже не «шестерка» смотрящего. Однако обычный арестант может решить с ним насчет уборки только уговорив и заинтересовав его. «Блатные» за процессом таких уговоров наблюдают с интересом. Для того, чтобы «шнырь» согласился надо внушать ему определённое уважение, а лучше страх. Люди того уровня как правило, и это меня все время удивляло, будут лучше относиться к тому, кто может сделать им что-то плохое, чем к тому, кто может сделать хорошее. Любят больше кнут, чем пряник.
Я никогда не внушал никому особенного страха. Поэтому как-то раз такой потенциальный уборщик никак не хотел помогать мне за сигареты. Пришлось уговаривать его при помощи «авторитетов». Не зря я пытался поддерживать с ними отношения, хотя особенно теплых чувств к ним не испытывал. В противном случае нормально прожить в общей камере не получилось бы.
Еще припоминаю довольно напряженную ситуацию, поводом которой стали отличия во взглядах на поведение в хате у разных людей.
Поясню, что в большой камере и в колонии на отрядах арестанты живут «семьями». Как правило по три-четыре человека, хотя может быть два или, наоборот, пять и даже больше. У «семейников» общие продукты, чай, сигареты, даже некоторые предметы одежды. Они вместе планируют свои расходы, едят, пьют чай и даже курят одновременно. Объединяются таким образом исходя из наличия общих интересов, образа жизни на свободе, уровня культуры и образования (можно и так сказать).
Жизнь «семьёй» с одной стороны облегчает существование. С другой стороны, наоборот, усложняет. Проще в том плане, что чем больше человек вместе, тем чаще заходят передачи. Легче рассчитать возможности в материальном плане, чтобы не испытывать недостатка в том, что необходимо. Опять же восполняется дефицит общения. «Семейнику» можно довериться, обсудить с ним интересующие темы. В случае возникновения каких-то конфликтных ситуаций это тот человек, на которого можно положиться безоговорочно. Порядочный «семейник» никогда не станет сомневаться в правоте второго (в отношениях с другими зеками).
Но тут то и таится вторая сторона медали. Приходится отвечать друг за друга. Если один где-то в чем-то неправильно поступает («порет бок» ) или, например, проигрывает в азартные игры, рассчитываться необходимо всей семьёй. Довольно у многих арестантов были большие проблемы из-за глупости «семейников». Редко кто в местах лишения свободы может настолько хорошо разобраться в человеке, чтобы быть в нем уверенным, как в самом себе.
Во избежание таких ситуаций, где-то ближе к началу двухтысячных, когда старые «понятия» начали забываться и не соблюдаться так строго, как раньше, зеки придумали новый вариант. Стали не «семейничать», а «хлебничать». В случае чего уже можно сказать, что этот человек мне не «семейник», я за него не отвечаю. А то, что мы ели вместе, то есть «хлебничали», это потому что так удобнее.
Но вернусь в 147-ю камеру, «осуждёнку» на «Катьке». Так называемая первая «семья» состояла там из довольно молодых пацанов, спортсменов, которые пытались вести сравнительно здоровый образ жизни, не курили, самогон не пили, спали по ночам, а днем качались (в камере при желании это возможно). Они не очень ущемляли права других содержащихся в камере арестантов, просили только курить в окно по одному человеку одновременно, а во время их занятий не курить вообще. Так как я не курил, такую «постанову» я даже поддерживал.
Но как-то заехал в камеру «пацан» (по «масти», по возрасту мужик около сорока лет), весь в наколках, с ведром, знакомым мне по «столыпинским» тройникам. Родом он был из Белоруссии, там же и жил. Там же отсидел за разные «подвиги» не меньше десятки. После очередного освобождения приехал в Киев, познакомился с женщиной (бывают же такие любительницы острых ощущений!), прожил с ней некоторое время. И как то раз, при очередной пьянке она сделала что-то не так, как он хотел. За что лишилась жизни. А Белорус поехал обживать украинские тюрьмы.
К моменту его появления в 147-й камере он сидел на Лукьяновке больше года. Срока ему дали 15 лет, 7 «крытой». Чувствовал он себя прекрасно. Тюрьма была его жизнью. А киевская по сравнению с белорусскими – просто курорт.
Он сразу обзавелся семейниками-малолетками, которым регулярно мамки приносили передачи. Присадил их на самогон и на пьяные разговоры про «понятия» и воровскую жизнь.
Первые две-три недели этот рецидивист не конфликтовал со смотрящим и его семьёй, но было видно, что курить по одному в определённое время ему не нравится. А тем, в свою очередь не очень нравилось то, что он по ночам не спит, а варит свой самогон. Конфликт назревал и обещал закончиться довольно плачевно. По белорусскому «рицику» было явно видно, что зарезать еще пару человек ему не сложнее, чем спортсменам пару часов потягать баулы с солью.
Я тогда тоже жил не сам. Моими семейниками были два парня. Один из Фастова, проходивший по довольно громкому делу о разбойных нападениях на антикваров. Второй из Броварского района, сидевший тоже за какое-то разбойное нападение. Они оба не проявляли видимого желания вести «блатную» жизнь. Но понятий придерживались, уделяли внимание «общаку», как и смотрящий с «семьёй» занимались спортом. На свободе оба увлекались борьбой.
Начал Белорус с того, что под самогон вел со своими малолетками разговоры такого плана. Почему спортсмены запрещают курить, когда ему хочется. Хотя до этого всё было как бы по согласию. О запрете речь не шла. Те просили, им шли навстречу (другое дело, что мало кто рискнул бы им навстречу не пойти). Но рецидивист повернул это так, что вот он хочет покурить, но вынужден ждать, пока те позанимаются. А ждать он не может, уж очень курить любит.
Заручившись поддержкой своих «семейников» он решил, наконец, форсировать события. Выбрал момент когда один поднимал тяжести, а второй отжимался между нарами, он демонстративно прикурил сигарету. Само собой, что «смотрящий» не мог оставить это без внимания, не потеряв авторитета. Началась словесная разборка, кто лучше разбирается в «понятиях», как правильно жить в камере и кто может это решать. Продолжилось традиционными вопросами, «кто ты такой?» и «кем живешь?».
Разрешить Белорусу курить во время своих занятий спортсмены вряд ли согласились бы. Да тому это и не особенно было нужно. Он просто хотел занять место «смотрящего» и получить доступ к «общаку». С тем, чтобы забрать его с собой на «крытую» полностью, а не столько, сколько выделят.
В конце концов препираться ему надоело. Если бы не реакция Вовы- борца из Фастова, иметь бы нашему камерному авторитету заточку в животе. Началась небольшая неразбериха. Вова мертвой борцовской хваткой держит двумя руками Белоруса, «смотрящий» схватился за бок, оба его семейника пытаются отобрать камерный нож у рецидивиста. Один малолетка последнего пытается душить Вову, второй стоит, растерявшись.
Заточку в конце концов отобрали. Силы спортсменов хватило. Как и на то, чтобы вдвоем удержать потом Рицика на лавке. Пока борец освободился от удушающего приема (довольно легко) и одним ударом в лоб исключил малыша из спора о вреде курения.
Тот конфликт списали на излишнюю вспыльчивость Белоруса, объяснив тяжёлой судьбой и расшатанной нервной системой. Он не пытался больше курить не вовремя. Но было видно, что положение его по-прежнему не устраивает и он не против повторить попытку взять власть в свои руки. Приходилось его контролировать. Семья смотрящего даже стала спать по очереди. На что уговорили и нас, как близких по духу и интересам.
Помню, что напряженность сохранялась не меньше недели. Закончилась она после того, как её источник поехал отбывать наказание в Винницкую тюрьму.
Времени от вынесения нам приговора до рассмотрения кассационной жалобы и его утверждения тоже прошло немало. Полгода. Три месяца мы знакомились с протоколами судебных заседаний. К этому вопросу я и мои подельники подошли основательно. Я не ленясь законспектировал все. Надеясь, что найдя в них свидетельские подтверждения и фактические доказательства нашей позиции и осветив их в кассационной жалобе, смогу добиться смягчения приговора.
Жалобу я написал качественную. С цитатами из показаний свидетелей и ссылками на результаты экспертиз. Однако вряд ли это повлияло на то, что по результатам её рассмотрения две высших меры наказания (Александру и Алексею) изменили на лишение свободы (на 15 лет каждому, с отбыванием первых семи в тюрьме).
Свою роль сыграл ряд телевизионных передач, снятых по материалам нашего дела журналистами телерадиокомпании Киев и показанных тогда же в программе «Черный квадрат». Будучи достаточно объективными, так как интервью были взяты у разных участников процесса, они все равно наталкивали на вывод, что суд вынес не совсем адекватное решение.
Уже одно то, что за убийство двух человек областной суд решил убить трех, не приобщало независимую Украину к европейским ценностям. Ну а если хоть немного вникнуть в суть дела и обстоятельства происшедшего, любому непредвзятому человеку станет ясно, приговор нельзя не смягчить.
«Черный квадрат» и помог немного вникнуть в суть и обстоятельства. Похоже, что не только общественности, но и членам коллегии по уголовным делам Верховного суда. Подтвердилось то, в чем я немного сомневался – четвертая власть действительно власть. Кроме того, что отменили две высших меры наказания, мне сняли 142-ю статью (тогда это была статья о «разбойном нападении») в связи с отсутствием состава преступления и отменили наказание по ней в размере 6 лет лишения свободы. Хотя это и не влияло на общий мой срок, так как приговор был вынесен с учетом поглощения бóльшего срока меньшим, такая мелочь все равно была приятной.
В конце концов получилось, что исчезло единственное в моих действиях отягчающее обстоятельство – корысть. И тем не менее, изменять квалификацию моей статьи Верховный суд не счел возможным. Думаю, просто не был заинтересован.
Заканчивая тему понесенного наказания, скажу, что последнему нашему смертнику Андрею президент в порядке помилования заменил расстрел на 20 лет лишения свободы. Возможно, что если бы не действие моратория, во время которого таким образом миловали всех приговоренных к смертной казни, быть бы нашему Андрюхе расстрелянным.