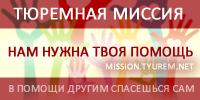Передо мной с визгом открылась железная дверь, и я робко ступил в небольшую камеру, рассчитанную на пять человек. Напротив я увидел железную решетку, размером один на один метр, вставленную в оконный проем стены, а под ней железную шконку. Справа от меня был унитаз «крокодил», а над ним кран; чуть выше его небольшая ниша в стене, где лежали зубные щетки и пасты. Вдоль боковых стен были установлены по две шконки в два яруса. По середины камеры стоял железный стол с лавочкой, намертво залитые в пол цементом. Камера освещалась тусклой лампочкой и придавала внутреннему убранству зловещий вид.
К этому времени за решеткой стояла уже глубокая ночь. Обитатели камеры не спали, но каждый сидел на своем спальном месте. Их было четверо, поэтому одна шконка была пуста. Распознать батька не составило труда. Это был мужчина около сорока лет. Он сидел на нижней шконке и был одет в черные трико и белую майку. В руках он держал толстую книгу, как оказалось, роман «Унесенные ветром». Имел упитанный, даже пухлый вид, и выпирающий из-под майки круглый живот с глубоким, как колодец пупком. Лицо выражало лень и усталость, или даже инфантильность, а припухлые розовые губы капризность ребенка. На отвислых щеках рдел небольшой румянец. Про обладателей таких губ и щек обычно в шутку говорят: «Такие брылы – хоть студень вари». В его тусклых глазах отсутствовала жизнь. Казалось, в них кто-то отключил свет. Кожа гладкая, безволосая. В тот момент я подумал, что у этого женоподобного существа должен быть писклявый голос (и я не ошибся). Он скользнул по мне презрительным взглядом, смочил языком пухлый палец, перелистнул страницу и продолжил читать. Другие, молча, смотрели на меня. Это были взгляды волчат. Нет, в них не было злости или кровожадности, скорее пошлая имитация не нее. Пытаясь во всем подражать взрослым, малолетки старались показаться опытными уголовниками. По одному взгляду они пытались определить внутреннее содержание человека. Но, увы! Опыта им, конечно же, не хватало, и гордый взгляд придавал им совершенно глупый вид.
Напротив меня сидел высокий, худощавый парень с вытянутым лицом. В зубах у него был длинный деревянный мундштук с тлеющей сигаретой, и дым попадал ему в глаза, от чего он сильно щурился. Справа сидел маленького роста татарин, с соответствующей внешностью – смуглой кожей и узким разрезом глаз, над ним, скрестив ноги, на верхней шконке сидел накачанный парень с круглым здоровым лицом. В руке он держал кусок черного хлеба и жевался.
– Проходи, чего встал? – ломающимся голосом сказал худощавый.
Я подошел ближе.
– Кто по жизни? – спросил он.
– В смысле? – переспросил я, не понимая вопроса.
– В прямом смысле! – срываясь, он перешёл на крик. – Активист, пацан, обиженный…, – перечислял он, перекатывая губами мундштук.
– Пацан, – ответил я и не уверенно добавил, – черный пацан.
– Первый раз сидишь что ли? – спросил он с ухмылкой.
– Первый.
– Видно, видно! Меня Кислым дразнят, а это Татарин, на «пальме» Славян, а это Саныч, – перечислил он всех, указывая на каждого пальцем.
– Меня Стас звать – приветливо сказал я, но Кислый оставался серьезен и руки не подавал.
– А дразнят как? Погоняло у тебя есть? – шепеляво спросил Татарин.
– Нет, никак не дразнят.
– О-о-о, это плохо, дружище! Каждый должен иметь тюремное имя! Завтра будешь кричать на решку (решетку), чтобы сама тюрьма тебе имя дала, – прищурил он при этом и без того узкие глаза. – Вот и Славка к тебе присоединится. Он уже две недели у нас кочумарится, а погоняла всё еще нет. Да, Славян? – спросил он, стукнув по верхней шконке.
– Ага, – отозвался Слава.
– А ты в ЮУрГУ не учился? – обратился ко мне накаченный Слава, – что-то лицо твое мне знакомо.
– Учился, – ответил я.
– Точно! – хлопнул он довольно по колену. – А я смотрю, ты или ни ты? Мы как-то у Каспера из твоей группы хотели стипуху отобрать…., – да-а, ловко ты нас тогда отметелил, до сих пор забыть не могу, – Слава широко улыбнулся, обнажив ряд зубов с налипшим черным хлебом.
– И я тебя узнал, – воскликнул я радостно. – Ты, по-моему, на менеджера учился?!
– Ага. На него самого. Да только отчислили меня. И к лучшему, – махнул он рукой. – Мне тут пацаны глаза на коммерцию открыли. Мне сейчас любая торговля взападло.
– А посадили тебя за что?
– Разбой. Водителей на трассе «бомбили», – гордо ответил он.
– Как бы то ни было, а знаешь, Слава, я очень рад нашей встрече. Ты первый знакомый, кого я встретил за эти дни, – искренне признался я.
– Короче, – перебил нас Кислый, – постанова здесь такая: три дня ты – гость, в это время будешь со всем знакомиться, слушать, запоминать. Никто тебя трогать не будет, но потом наступит «трамвайка» и сорок дней ты будешь трамваем. Всё понял?
– Не совсем! Что такое «трамвайка»? Объясните мне, пожалуйста.
– «Трам-вайка», – смакуя, произнес он это слово по слогам. – Это когда ты шуршишь, как электровеник. А мы посмотрим – достойный ты пацан или нет? А может на бабу схож?
– Но, по-моему, шуршать, как электровеник, как раз таки удел баб, – заметил я ему.
– О-о, ты покалякать хочешь? Умный что ли? – произнёс он с вызовом.
– Не знаю, не мне судить!
– Вот скоро мы и посмотрим, есть ли у тебя солидол в макитре!
– А через это все проходят? – спросил я доверчиво, желая не накалять больше Кислого.
– Конечно все. Я «трамваем» был, и Татарин тоже был. Вот, Славик, у нас до сих пор «трамвай». Да, Славик? Сколько тебе ещё деньков осталось?
– Двадцать девять ещё, – уныло ответил тот.
– Вот так!- ухмыльнулся Кислый,- Ну всё, хорош гутарить! Падаем все спать, – и он залез под одеяло.
Я прилёг на свободную шконку и под шумную перекличку сверчков ещё долго ворочался. Мысли не давали мне уснуть. Во время нашего разговора пухлый Саныч не проронил ни единого слова, но нельзя сказать, что он был целиком поглощен романом, скорее делал вид. Когда его пухлые пальцы перелистывали очередную страницу, он бросал на меня короткий, но весьма выразительный, наглый взгляд. Взгляд подлого хищника. «И что я ему плохого сделал? А может, я ошибаюсь? – думал я. – Ну да ладно, время покажет», – и моя душа полетела к родным пенатам.
Меня сильно тянуло к семье и мысли разрывали мое сердце на части. Я вспоминал своё счастливое детство, беспечную юность. Вспомнился плюшевый белый мишка, без которого я не мог засыпать до семи лет. Вспомнилась первая рыбалка, и как дед учил меня насаживать на крючок червя, а перед тем, как забросить его в воду, обязательно поплевать, чтоб карась попался крупнее. Как я забрасывал удилище через спину и ненароком цеплялся крючком за ягодицу. Воспоминания приходили ко мне с такой быстротой, что я не в силах был их остановить или отогнать. Вспомнил отца, когда он первый раз посадил меня за руль нашей машины, и как я на ней слетел с дороги в кювет. Он даже не отругал меня, наоборот, улыбнулся и сказал: «Лиха беда начала. Теперь мы будем ездить чаще!». С болью вспомнил, как мама в день моего ареста делала пирог «курник», и просила меня съесть ещё кусочек, но я жевал его на ходу, а она ласково у порога подливала мне молоко и приговаривала: «Скушай ещё, сынок! Вот так! Молодец!» Ах, милая моя мама, это был самый вкусный пирог в моей жизни, про который я до сих пор вспоминаю с болью в сердце.
Эмоции переполняли меня, на ум пришло высказывание кого-то из мудрецов: «Воспоминания – это рай, из которого нас невозможно изгнать». Как же он был прав! Как хорошо, что у человека есть дар воспоминаний. Наверное, Бог наградил людей этой способностью для того, чтобы воспоминания служили нам опорой на жизненном пути. Приходили на помощь в минуты невзгод и были сокровенным уголком, в котором мы могли бы спрятаться, передохнуть, отдышаться. Под утро меня одолела усталость, и я уснул.