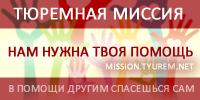Итак, в постановлении о моем аресте с мерой пресечения — содержанием под стражей, подписанным прокурором города Волковым, было предварительное обвинение, в котором мне в вину вменяли совершение незаконных действий, попадающих под ст. 86-прим (хищение государственного или коллективного имущества в особо крупных размерах), и ст. 169, ч. 1 (посредничество в получении взятки должностным лицом). Ну вторая статья еще туда-сюда, но вот первая — от 10 лет лишения свободы… Понятно, что все это еще нужно было доказать следственными действиями и подтвердить в ходе судебного разбирательства, но тогда-то о таких подробностях я понятия не имел! Ход моих мыслей тогда был чрезвычайно прост: раз санкция на арест получена, значит у Надеенко на меня есть что-то серьезное. Это позже я узнал, что хищение было «прокурорской» статьей, чтобы оправдать мой арест и содержание под стражей (по посредничеству в получении взятки содержание под стражей не предусмотрено).
Величественное здание областного Управления внутренних дел на ул. Совнаркомовской с незапамятных времен обросло легендами и слухами. Барельеф Феликса Эдмундовича на фронтоне говорит сам за себя: помнят, чтут. Харьковский ИВС при областном УВД в то время представлял собой четырехэтажное здание с выходящими во двор «управы» окнами, которые были закупорены металлическими листами с мелкими, не больше спичечной головки, дырочками. На первом этаже сего строения находились различные службы и что-то типа спецприемника для разного рода алкашей и бомжей, которые по каким-то причинам были отобраны в кулуарах загадочного милицейского механизма. Я пару раз видел, как мрачные бабы мыли коридоры и такого же вида мужики мели двор. Второй этаж — ИВС Комитета госбезопасности, то бишь, сегодняшнего СБУ. Камеры там ухоженные, на двоих, с постельным бельем и без параши — подследственных по требованию выводили в туалет в конце коридора. Сидели там особые подозреваемые, по которым следствие вело КГБ. Третий этаж — вотчина УВД и прокуратуры, хотя, говорят, нынче у прокуратуры и ОБОПа свои следственные изоляторы. На четвертом — кабинеты для допросов.
Изолятор временного содержания (или камера предварительного заключения, КПЗ, если вы попали в районный отдел милиции) действительно отвечает своему названию и абсолютно не предназначен для длительного заключения. В него могли «прикрыть» исключительно по подозрению в совершении преступления и на срок не более 72 часов, после чего вам или должны были предъявить обвинение, или отпустить на все четыре стороны (сейчас этот срок продлен до 10 суток — это действительно страшно…) По сравнению с ИВС или КПЗ следственный изолятор (СИЗО) считается шикарным местечком, куда вас отправят уже после подписания прокурором санкции на ваш арест с мерой пресечения — содержанием под стражей.
Мы вошли в мрачного вида корпус, где на первом этаже в небольшой комнатушке дежурный сержант приказал мне раздеться до трусов, внимательно ощупав каждый сантиметр моей одежды. Затем у меня отобрали обручальное кольцо, часы, деньги (благо, их было не много), выгребли все, что было в карманах, вытащили из туфлей шнурки, которые к моему возмущению просто выбросили в мусорное ведро, ремень из брюк, велели снять очки. Зрение у меня слабое —5, поэтому из всего происходящего это было самым неприятным. Объяснили, что стекла могут быть использованы для нанесения себе телесных повреждений. Сигареты вернули, предварительно отломав у них фильтры. Уже потом я узнал, что и из фильтра можно с легкостью изготовить что-то наподобие лезвия, слегка подпалив его спичками и пальцами придав расплавленной массе нужную форму. Когда преображенный таким способом фильтр затвердевал, отчаянные головы могли, например, вскрыть им себе вены и свести счеты с жизнью или получить желанный отдых в больничном изоляторе. Ну, а со шнурками и ремнем все понятно — чтобы я, не дай Бог, не повесился в камере.
После этого меня, выпотрошенного и полуслепого, шлепающего спадающими с ног туфлями, отвели на третий этаж в камеру.
Вот он, длинный коридор с рядами зловещих дверей, которые открываются ровно настолько, чтоб мог пройти один человек — специальный фиксатор на полу не дает открыть ее шире. Моя камера была рассчитана на трех человек, но там никого не было. Сразу в нос ударил специфический запах, который я не могу забыть до сих пор. За мной закрыли, как-то театрально гремя ключами, двери, и я остался один. Десять шагов от дверей до окна. Спертый воздух, пропитанный вонью немытых человеческих тел. Полумрак тускло горящей над дверью лампочки. Камера…
Усевшись на металлические нары с деревянным настилом, я вдруг ощутил ни с чем не сравнимую тоску и отчаяние. У меня возникло ощущение, что все происходящее я уже видел в каком-то плохом кино, но происходит это не со мной… Выкрашенные суриком пошарпанные двери с «кормушкой» посредине, через которую подают еду; голые доски нар без намека на какой-нибудь тюфяк; две выварки, одна из которых предназначалась для воды, а вторая служила туалетом — парашей; наглухо привинченный к полу и стене стол с такой же монолитной скамьей; окно с двойной решеткой и мелкой сеткой, через которую ничего не было видно; стены с «шубой» — наляпанным на них бетоном, чтобы нельзя было сделать надпись… Красота… И посреди всего этого роскошества — я… Боже, как это могло случиться, как я мог дойти до этого, я — человек, который всю жизнь избегал каких бы то ни было трений с правоохранительными органами?
Пытаться описать чувства, которые сдавили мою грудь железными тисками, практически невозможно. Перед глазами проносились образы жены, детей, которых я, возможно, не увижу много лет, стариков-родителей, которые могут не пережить такого позора, друзей, которых обязательно будут тоже таскать на допросы… Смешались обида, позор, отчаяние, безысходность — наверное, такие же чувства испытывает зверь, попавший в охотничью яму. Сюда же можно добавить лихорадочно перелопачиваемые в мозгу показания, которые я давал раньше, поиск собственных ошибок, догадки, что же там наговорили «подельники», попытку определить как же вести себя дальше — полная каша в голове, от которой через час я уже «сварился». Измученный массой впечатлений организм не нашел ничего лучшего, чем погрузиться в живительный сон… Я улегся на жесткие нары и закрыл глаза, но через минуту почувствовал, что по моей шее что-то ползает. Вшей я видел впервые в жизни, но сразу догадался, что это были именно они. В ужасе я сорвал с себя свитер, футболку и, вывернув ее воротник, стал с отвращением давить насекомых. Уничтожив их не меньше десятка, я с опаской прилег снова. Новой атаки, вроде, не было, и я через минуту провалился в темноту.
Меня разбудил лязг открываемой двери: «На выход!» «Неужели отпустят?!» — это первое, что мелькнуло в мозгу. Какое там! Меня повели на четвертый этаж: приехала Надеенко.
Я не стану подробно рассказывать о методах ведения допросов этой женщиной в течение последующих шести (!) дней моего пребывания в ИВС. Угрозы, мат, запугивания, что посадят жену, а детей отдадут в интернат, что я получу «десятку» — и все только ради одного: дай показания, что Знаменный вымогал у вас видеокамеру и получил ее как взятку за кредит. «Ты мне на хрен не нужен, мне нужен банкир, ты понял? Давай рассказывай все, что знаешь!» Два раза меня допрашивали даже ночью. Но я стоял на своем: такой информацией не владею. Она бесилась, обзывала меня на все лады, а однажды привела с собой знаменитого на весь Харьков капитана Горошникова — жуткого краснорожего типа, о котором рассказывали, что он, будучи за рулем конфискованной машины в дрибадан пьяный, застрелил гнавшегося за ним на мотоцикле гаишника, отчего стал «вечным капитаном», выполнявшим для милиции грязную работу, в том числе страшно пытал подследственных. «Ты знаешь, кто это?» — улыбаясь, спросила меня Надеенко. Я не знал. Они оба заржали. «Ничего, скоро познакомишься с капитаном Горошниковым!» Я замер от ужаса: о нем мне рассказывал Знаменный, который познакомился с ним еще при первом задержании. Но в этот раз мне повезло: уходя, он слегка рубанул меня по загривку ребром ладони, свалив меня на пол, и пообещал, что скоро опять свидимся. Надеенко внимательно следила за моей реакцией. Конечно же, мне было страшно! Однако своих показаний менять я не собирался. Был еще один из ее помощников по фамилии Гаврик, который попытался взять меня «психологической атакой»: на ночном допросе в течение почти шести часов он мне задавал один и тот же вопрос: «Куда дели аппаратуру?» Поначалу я отвечал на разные лады, что не знаю, о чем вообще идет речь, но потом понял, что он просто давит на мою психику, пытаясь меня сломать и заставить говорить то, что они хотели услышать. Я тоже отморозился, и стал вместе с ним твердить один и тот же ответ, чем быстро вывел его из себя. Каждую секунду я ждал, что он наброситься на меня с кулаками, но, видно, такого приказа ему дано не было, и все это время мы, как два идиота, играли в эту странную игру, которая ничем не закончилась. Больше я его не видел.
Окончательно не потерять чувства времени помогали утренняя и вечерняя проверки. Это тоже был своеобразный ритуал. В хату заходили начальник смены и дежурный по коридору, арестованные должны были построиться в шеренгу, начальник читал фамилии, а мы в ответ должны были назвать свои имя и отчество. В это же время дежурный лупил по решетке «киянкой» — не подпилена ли? Звучал вопрос: «Жалобы есть?», и двери за ними закрывались. Жалобы были у многих, но никто не обращал на них внимания. Врача могли вызвать только в случае, если арестованный не мог подняться с нары.
На второй день моего пребывания в ИВС ко мне пришла нанятая моими родителями адвокат. Эта женщина, как выяснилось, никогда раньше не вела уголовные дела, только гражданские. Но она вполне могла поддержать меня на предварительном следствии. Я несказанно обрадовался, когда она, прижав палец к губам (во всех допросных кабинетах стояла прослушка), украдкой передала мне письмо от моих родных. Прочтя, я тут же вернул его обратно, но долгожданная надежда все же появилась: они делали все, чтобы меня освободили под подписку о невыезде. Оказалось, что они мне передавали продукты и сигареты, но ничего не дошло, все «раздербанили» между собой менты.
После этого почти все допросы проводились в ее присутствии, и прихода адвоката я ждал как манны небесной — единственная связь с «большой землей». Но несколько раз меня все же допросили без присутствия адвоката. Надеенко, в отличие от меня, прекрасно знала, что нарушает закон, но, ласково мурлыкая, убеждала, что «…тут нужно утрясти одну маленькую незначительную деталь, и все». А я, дурак, соглашался, и вместо «парочки минут» допрос затягивался на долгие часы.
По прошествии многих лет, когда этот кошмар давно уже позади, я могу с уверенностью заявить: самые главные ошибки все подследственные делают на предварительном следствии. Именно тогда решается их судьба, именно первичные показания, несмотря на методы их получения, прежде всего учитываются в суде. «Ты подпиши, а на суде всегда сможешь отказаться, скажешь, что было оказано давление», — могут посоветовать «добрые» сокамерники. Бред! Если обвиняемый на суде начинает вдруг отказываться от своих первичных показаний, ссылаясь на грубое давление со стороны следствия, ему потребуются титанические усилия, чтобы доказать, что эти показания не соответствуют действительности. А если новые показания обвиняемого напрочь перечеркивают генеральную линию следствия, сведя на нет все его усилия по созданию «железной» доказательной базы, то суд однозначно станет на сторону следствия. И тогда вам, наверняка, сидеть по полной программе. Дело в том, что у нас в стране пока не создан (и, скорее всего, этого не случится в ближайшем обозримом будущем) институт независимого судопроизводства. Практически все судьи, следователи, прокуроры и многие адвокаты начинали свою карьеру в одной и той же школе — районном отделении милиции. По большому счету — это одна шайка-лейка… Сделайте правильные выводы.
Жизнь в бизнесе сегодня тяжелая, и каждый бизнесмен может элементарно превратиться в мальчика для битья. Я бы советовал на всякий случай всегда иметь при себе телефон надежного, проверенного адвоката, лучше того, который никогда не работал в органах. От адвоката зачастую зависит исход всего дела, вернее, от его умения получить и передать необходимую информацию со свободы подследственному и обратно. Я никого не хочу обидеть, но Система мастерски забрасывает сети, и многие адвокаты, плавая в мутной воде грязной правоохранительной лужи, заботясь о своей карьере, попадают в них и начинают на систему работать. Некоторые просто «стучат», выведывая у подозреваемого и отдавая следствию важнейшие факты, после чего продолжают защиту уже окончательно запутанного человека, рассказывая ему, как сложно будет «решить его вопрос», и получая еще большие дивиденды. Повторяю, старайтесь иметь «своего» адвоката, которому вы доверяете.
А лучше всего — чтите уголовный кодекс, как это делал вечно живой Остап Бендер. Купив Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины с комментариями, не поленитесь потратить несколько недель на их внимательное изучение, дабы в самой неприятной ситуации не пасть лицом в грязь перед «защитниками закона» и хоть что-то противопоставить правовому беспределу, давно ставшему у нас нормой жизни.
Но вернемся к нашим баранам. Одним из расхожих методов получения интересующих следствие сведений, наряду с разного рода «выбиванием» их из подследственных, является подбрасывание к нему в камеру стукача, «курицы». Мне повезло, что меня не пытали. Наверное, сказалась моя интеллигентная внешность, и они решили, что и так меня расколют. Сведущие люди предупреждали меня, что могут подсадить кого-нибудь, кто попытается вытянуть из меня чуть больше того, что я наговорил в протоколы, но кто же мог подумать, что это будет такой профи!
На вторые сутки ко мне подсадили соседа. Это был типичный бомж, грязный, рваный и вшивый, которого звали Боря. За плечами у Бори было четыре ходки. Жизнь его долбанула стандартным для «совка» образом: после тюрем никто не брал на работу, жена бросила, из квартиры выписали, из документов — одна справка об освобождении. Эдакое ходячее несчастье. Зато зэковского опыта — море! Он без умолку рассказывал мне истории из своей нелегкой жизни, за себя и за меня уплетая за обе щеки уму не постижимое варево — «баланду», которое он любовно называл «борщечок», заедая его хлебом специальной выпечки, от которого через полчаса раздувался живот от метеоризмов. После еды (в ИВС кормили три раза в день) он бегал туда-сюда по камере — гулял, поминутно подходя к дверям и громко и весело «громыхал» в сторону охранника, «попкаря», который, скучая, бродил по коридору, время от времени заглядывая в «глазок». Поражаясь его опыту в вопросах самозащиты во время следствия, я как-то незаметно для себя все больше стал подумывать о том, а не спросить ли у него, как мне себя вести в моей ситуации. И он, видимо, чувствуя это, с удивительным артистизмом помог мне. Я таки рассказал ему некоторые подробности своей «делюги», хотя у меня хватило ума умолчать о существенных деталях, которых не знало следствие. Он мне что-то там посоветовал, потом его вызвали якобы на допрос, после которого он сказал, что его, скорее всего, отпустят. И тут меня осенило: а не передать ли мне на свободу через него маленькую записку? Так, ничего не значащую, для своего товарища, которому я поспособствовал в покупке из выставочного товара телевизора «JVC». Я хотел просто предупредить его, чтобы он не боялся и говорил правду, что купил телевизор через меня. Два слова жене и детям — мол, жив, здоров. Боря с охотой вызвался сделать это и даже «подсуетился», раздобыв у «знакомого» попкаря листок бумаги и карандаш (как выяснилось позже, как бы вы не просили охрану, вам ни за что не дадут бумагу и ручку в обычной ситуации!). А за эту услугу он попросил отдать ему мои куртку, шапку и свитер. «У тебя в следственном изоляторе все равно отберут, жалко, лучше отдай мне».
Утром третьего дня моего пребывания под арестом, меня вызвали для снятия отпечатков пальцев. Боря сказал, что раз я «поиграл на пианино», то меня точно повезут в следственный изолятор на Холодную гору, а это сто процентов надолго. «Оттуда мало кто без суда выходит… А меня сегодня уже здесь не будет». Я печально глядел на его вшивые обноски, но деваться было некуда, и, когда его как бы выпустили, мы с ним поменялись одеждой. А вечером Надеенко уже допытывалась, кто такой Саша и откуда у него телевизор из партии, которая была на выставке… Я с ужасом понял, что Боря был подсадной уткой и красиво меня развел. Как выяснилось позже, телевизор у моего товарища Саши сначала отобрали как вещественное доказательство (чего? — никто так и не понял), но потом отдали, признав честно приобретенным. Я получил великолепный урок от системы, за который заплатил еще десятком седых волос.
На шестой день меня повезли в холодногорский СИЗО. Слава Богу, очки мне вернули, и я даже не ожидал, что этот предмет может когда-нибудь вызвать у меня столько радости.
Сегодня Харьковский следственный изолятор, который находится на ул. Полтавский шлях, 99, представляет собой шестикорпусное сооружение, в котором содержится до 7.000 подследственных (данные могут «плавать», и наверняка арестантов там уже намного больше). В те годы СИЗО выглядел следующим образом.
Первый корпус — общие камеры для совершивших преступления по «легким статьям» и для тех «тяжелостатейников», кто у ментов не создал проблем с получением признательных показаний, и следствие шло гладко. Туда же «сбагривали» и обвиняемых, по которым дело уже было закрыто, и они готовились к суду. Условия содержания в общих камерах были ужасные, и, уверен, остаются такими по сей день.
Второй корпус («тройники») — строгой изоляции для особо опасных (или важных) подследственных, тех, кого нужно «крутить», кто не признается или кого нужно надежно изолировать от «подельников» в интересах следствия.
Третий корпус («рабочка») — камеры для хозобслуги, подсобные и рабочие помещения.
Четвертый корпус («больничка») — медицинская поликлиника и камеры, где содержались заключенные, требующие временного медицинского наблюдения и лечения.
Пятый корпус («телки» и «малолетка») — камеры для подследственных женщин (два этажа) и подростков, не достигших 18 лет (два нижних этажа). Если в СИЗО попадала несовершеннолетняя девушка, то она сидела вместе со взрослыми женщинами.
Сейчас, говорят, многое изменилось. Еще тогда тюремное начальство начало строить шестой «коммерческий» корпус, где за деньги могли бы сидеть в «фельдеперсовых» условиях те, кто в состоянии был заплатить за просторную камеру с телевизором, холодильником и кондиционером. Да здравствует капитализм! Этот корпус уже давно построен и успешно функционирует. Сидят там в основном бизнесмены и спортсмены, правда, я не знаю расценок, но думаю, не меньше пятидесяти долларов в месяц. «Малолетка», в связи с повальной детской преступностью, теперь полностью занимает пятый корпус, а женщин «совместили» с остатками «больнички» на четвертом.
Единственное, за что я был благодарен Боре, так это за то, что он рассказал мне о порядках в СИЗО. За два дня, проведенных в его обществе, я узнал о тамошних нравах — «понятиях», и чуть-чуть успокоился: не так был страшен черт, как его малевали. Нет, ни в коем случае я не хочу сказать, что я был абсолютно уверен в себе! Предстоящая встреча с посаженными в клетку уголовниками совершенно меня не прельщала. Но, понимая, что деваться уже некуда, я внутренне старался держать себя в руках: по рассказам Бори, там нужно было уметь постоять за себя и постоянно«следить за помелом», «за базаром», т.е. думать о том, что говоришь, иначе можно было попасть в «непонятку», последствия которой могли быть самые плачевные.
Обыкновенный человек, никогда не сталкивавшийся с пенитенциарной системой, проезжая мимо холодногорского СИЗО, в лучшем случае почувствует легкий холодок под ложечкой при взгляде на высоченные стены и корпуса с закрытыми металлическими листами («баянами») окнами. Тот, кто побывал внутри, почувствует совсем другое. При приближении к этому заведению бывшего его обитателя обязательно охватит чувство тревоги, постепенно переходящее в паническое желание как можно быстрее покинуть это место. И все равно он невольно сверлит глазами толстенные бетонные стены, словно просвечивая их рентгеновскими лучами, и его воображение моментально достает из глубин памяти образы — корпуса, этажи, коридоры, охранники, камеры и тысячи копошащихся в них людей, в немыслемых духовных и физических мучениях ожидающих свою судьбу.
Тюремный «воронок» без окон доставил меня в СИЗО под вечер. Там меня осмотрел врач, записал особые приметы, наличие или отсутствие татуировок, и самое главное — есть ли у меня следы от побоев. Нет. Вяло справился о жалобах на здоровье. Их у меня тоже не было (главным образом потому, что я понятия не имел о последствиях каких бы то ни было жалоб вообще). После этого меня «прошмонали» и отвели в один из «боксиков» — общих камер-распределителей, где вновь прибывшие ожидали развода по местам своей временной прописки. Многие из новеньких попадали еще и на «вокзал» — в специальную камеру, где им приходилось по несколько суток ждать, пока начальство определиться с их «пропиской». Почти час я в одиночестве сидел в боксике размером 6 х 6 метров, где была одна длинная скамья, окно из стеклоблоков с малюсенькой форточкой и в углу чрезвычайно вонючее и неубранное отхожее место. Кстати, в СИЗО и на зоне словом «параша» называют не выварку, как в ИВС и КПЗ, а вполне приличный открытый толчок, но чаще употребляют слово «дючка».
Потом ко мне подсадили группу около десяти человек, вернувшихся с суда, состоящую в основном из молодых пацанов: «Опа, братуха, ты шо, первый раз тут?» Первый, говорю, а сам уже весь напрягся. На мне, кроме обносков с Бориного плеча, оставались мои туфли, довольно приличные. Барахло на мне было моментально оценено взглядами, но внимание привлекли только туфли, и один из них начал уговаривать меня поменяться с ним обувью. На нем были стоптанные «колеса», в которых уже до него умерло, как минимум, человек пять. К тому же летние, плетенка. Я сказал, что мои туфли мне самому пригодятся. «Братуха, тебе еще здесь чалиться долго, а мне на суд надо в чем-то приличном ездить. Ты себе еще найдешь, давай меняться». Я уперся, и он начал нервничать, а за ним и остальные стали внимательно прислушиваться к разговору. Не знаю, чем бы все закончилось, но в этот момент начали развод по камерам, его увели первым, а за ним и остальных. Я снова к своему облегчению остался один, но ненадолго. Открылась дверь, назвали мою фамилию, и я пошел навстречу неизвестности с руками за спиной.
Меня отвели на второй корпус, где находились так называемые «тройники» — камеры, рассчитанные в далеком прошлом на трех человек, в которых теперь содержалось по шестеро. В смысле, нар было в них шесть, и это, как выяснилось позже, совсем не означало, что в такую камеру нельзя было набить до десяти человек. Сам корпус считается корпусом усиленной изоляции, в котором содержатся подследственные, представляющие особую опасность — «тяжелостатейники» или такие, которых необходимо было изолировать от любых внешних связей с «подельниками» по просьбе следствия. Потом я узнал, что на «тройники» можно попасть еще и по другим причинам — отдохнуть, поднажиться у своих же «братков-каторжан», спрятаться или «улучшить условия содержания» по договоренности с операми или соответствующей проплате со свободы. Зато можно и вылететь оттуда на первый корпус, где в общих камерах, рассчитанных на 40-60 человек долгие месяцы, а иногда и годы содержатся по 90-120 обвиняемых в результате организованного тюремными операми по просьбе следователей («следаков») давления («пресса»), если следствие будет недовольно ходом расследования и даваемыми вами показаниями.
На первом этаже я получил жуткого вида матрац («скатку»), подобие подушки, огрызки серого белья, помятую миску, кружку, ложку и за все это расписался. «Попкарь» повел меня на четвертый этаж, на котором размещались восемнадцать камер, и я был наконец-то определен в одну из них.
Каменный мешок размером 5 х 3 метров с окном 1 х 1 метр с двумя слоями решеток, деревянной оконной рамой со стеклами между ними (летом раму убирали) и «баяном», позволяющим видеть только полоску неба. Шесть пар глаз уставились на меня (я «заехал» в хату седьмым). «Привет, мужики!», как учил меня подлец-Бориска. Сработало, поздоровались. «Куда можно кинуть скатку?» Положить ее было некуда, поэтому пока пришлось примоститься на стуле. Ночь спали в две смены с каким-то пацаном, а утром на другой день двоих заказали с «вещами», нас осталось пятеро и мне была выделена нара на втором этаже около окна.
Если стоять спиной к двери, вдоль правой стены камеры размещалась двойная «этажерка» с тремя ярусами нар, у противоположной стены — приваренные к полу стол с двумя табуретами, рядом — умывальник, за ним, в углу, слева от входной двери — дючка, на описании которой стоит остановиться подробнее. Вполне приличный, такой удлиненный, металлический эмалированный унитаз, приподнятый над полом сантиметров на 30, обложенный грубой плиткой. Из стены торчит труба с краном для смыва, а отгораживает все это сооружение от умывальника бетонная стенка в пол человеческого роста высотой — «парус». Естественно, качественно смыть за собой струйкой из крана было невозможно. Но, как известно, голь на выдумки хитра, а заключенные — особенно. Простое приспособление — «морковка», которое использовали по всему СИЗО, вполне решало эту проблему. Из старого барахла, плотно обернутого толстым слоем из целлофановых пакетов, изготавливалась большая пробка, по форме скорее напоминающая крупный бурак, которой закрывали «очко» и наполняли унитаз до краев водой. Затем пробка с помощью привязанной к ней веревки вынималась, и поток воды достаточно эффективно смывал «парашу».
Самое большое неудобство заключалось в том, что справлять свои естественные нужды приходилось, присаживаясь над дючкой на глазах у всех. Вид был еще тот! Я уже не говорю о сопутствующих ароматах, которые приходилось вдыхать всей камере. Но все понимали, что любой из них скоро будет следующим, и отпускаемые шутки никогда не носили унизительного характера, а были, скорее, традиционными, хотя поначалу ты не знаешь, куда деваться от стыда: «Фу, что ты жрешь?», «Хвостом помешивай!», «Глаза режет!» Новичку: «Да, чувствуется, что еще домашними пирогами серишь…» Однако эта проблема коснулась меня только через девять дней, когда я впервые почувствовал, что пора опорожнить кишечник. До этого я практически ничего не ел (за первый месяц похудел на 12 килограммов!) — в ИВС только хлеб и подобие чая, иногда мог съесть ложку-другую вонючей баланды. Но после того, что мне уже пришлось вынести, это испытание оказалось для меня не таким уж страшным, и вскоре я к этому, как и все, привык. Кстати, если кто-то в камере принимает пищу или просто катает во рту языком леденец, ходить в туалет или пускать газы в этот момент строжайше запрещено.
Коль скоро я несколько нетрадиционным способом коснулся организации питания подследственных, продолжу.
В СИЗО завтрак начинался в 5-00 утра с раздачи сахара и хлеба — на человека 20 г сахара, полбуханки черного и три кусочка (кусочек — половинка ломтя) белого хлеба. Далее, в 6-00 — собственно завтрак: половник сваренной на воде пшенной, перловой или овсяной сечки, зачастую с вареными жучками, чай, состоящий из подкрашенного и чуть подслащенного кипятка, который мы никогда не брали.
Обед в 12-30. На первое вариантов было всего-ничего: борщ из кислой капусты и гнилой картошки, рассольник с перловкой и гнилыми солеными помидорами, перловый суп и самое вкусное и желанное из тюремной стряпни — гороховый суп. Второе тоже не блистало разнообразием: все те же каши, но с добавлением тонких волокон мяса неизвестного происхождения и комбижира («маргусалина»), который желудок очень плохо переваривал, обостряя гастриты, язвы, а у кого их не было — обещая устроить. На десерт — жидкость, весьма отдаленно напоминающая компот из сухофруктов, который мы тоже никогда не брали
Ужин в 17-30 — остатки того, что было на второе в обед, чай.
О тюремном хлебе стоит рассказать отдельно. Кто придумал эту уникальную выпечку и на каком хлебозаводе его производят, я так и не узнал. Дело в том, что через полчаса после употребления такого хлеба живот начинают разрывать газы, вас пучит так, что глаза вылазят из орбит. Но самая уникальная его особенность в том, что он годится для изготовления разного рода скульптурных форм, причем, черствея, он становится твердым, как камень! В тюрьме из хлеба изготавливают массу различных поделок,— кубики для нард, четки, шашки и многое другое. Ума не приложу, как этот хлеб переваривали наши желудки…
Раз в месяц можно было получить продуктовую передачу от родственников, вес которой тогда не должен был превышать 8 килограммов. Раз в два месяца можно было получить вещевую передачу.
Пишу эти строки, а на улице стоит страшная жара. Невольно мысли возвращаются туда, где эта жара всегда на 5-7 градусов выше — в тюремные камеры. Дышать нечем, спички не загораются то ли от отсутствия кислорода, то ли от перенасыщения этого замкнутого пространства влагой человеческих испарений и сигаретным дымом, неподвижно висящим посреди камеры синим облаком. Пот струйками непрерывно стекал по телу, все постельное белье мокрое и вонючее. Даже долгожданная ночь не приносила избавления от жуткой жары и духоты. Комаров я ни разу не видел, а редко залетающая в камеру муха через некоторое время замертво падала на пол… Иногда удавалось уговорить дежурного по этажу на некоторое время открыть «кормушку» и впустить в камеру хоть немного прохладного воздуха из коридора.
В летние месяцы в тюрьме от жары умирают по 2-3 человека в день, в основном сердечники и гипертоники, а риск заболеть туберкулезом увеличивается во много раз. Как бы ни было холодно в камерах зимой, всегда можно завернуться в какое-то барахло и согреться. Летом же там хоть шкуру с себя снимай…
Вопреки моим опасениям, приняли меня нормально. Пока ничего из того, о чем мне приходилось слышать на свободе — поножовщина, разборки, «опускания» и тому подобного не происходило. Да, преступники, да, у каждого тяжелая статья от убийства и изнасилования до хищения в особо крупных размерах. Ну и что? Во-первых, деваться некуда, нужно находить общий язык с ними со всеми. Во-вторых, ты и сам вроде как полноправный член стаи, тоже здесь не просто так. А посему, какие могут быть проблемы? Могут, но о них чуть позже. Самым главным было то, что я убедил себя в необходимости сосуществовать на этих восьми квадратных метрах с людьми, которых в любой другой ситуации я обходил бы десятой дорогой, научиться говорить на их языке, постараться сделать так, чтобы меня уважали. В конце концов я был уверен, что это не на долго и меня скоро освободят, а все происходящее со мной — большая ошибка, и там, наверху, скоро во всем разберутся. Нужно просто какое-то время подождать. Вы даже не представляете себе, с каким тупым упорством человек в этой ситуации хватается за каждую соломинку и как страдает, когда выясняется, что это очередной блеф…
Меня окружали в принципе нормальные люди, и, если абстрагироваться от того, что на каждом из них висело серьезное нарушение закона, с ними вполне можно было ладить. Старший в камере («хате») был Вовчик — сел за квартирную кражу еще на «малолетку» (в колонию для малолетних преступников), потом «поднялся на взросляк» (когда исполнилось 18 лет, его перевели в колонию общего режима). Вышел, снова что-то где-то украл, и теперь ему дадут строгий режим. Молодой, 23 года. Естественно, по тюремной жизни плавает, как рыба. Остальные, как и я, по первому разу. Один, Юра, — групповое изнасилование; второй, Коля, — хищение госимущества; третий, Саша, — разбойное нападение; четвертый, тоже Юра, — квартирная кража. Самый опытный — Вовчик, который все всем растолковывал, хотя его безграмотность была потрясающей. Правда, довольно скоро я понял, что это не предел. Спал он, само собой, на нижней наре.
Я уселся на его нару, предварительно спросив разрешения, и меня начали осторожно «щупать» — кто я, что из себя представляю, где работал, семья, дети, за что сюда попал. Попутно меня угостили куревом (здесь, как и в ИВС, запрещены были сигареты с фильтром), предложили «чифирнуть». От второго я отказался, и, с удовольствием затягиваясь после недельного воздержания, стал отвечать на вопросы. Рассказывать можно все, но очень аккуратно, без особых подробностей, особенно по своему делу. Да и о своей жизни на свободе особо трепаться не рекомендуется. Работал, звезд с неба не хватал, так, середнячком жил. Если кому-то вздумается рассказать сказку о своей крутизне, это может быть довольно легко проверено: несмотря на строгую изоляцию, между камерами и даже корпусами все равно налажена связь. Узнают, что наврал с три короба — можно попасть в большие неприятности. Поэтому главное — быть самим собой, таким, какой ты есть, ни лучше, ни хуже. Спросили, есть ли у меня вши? Похоже, что есть. Заставили скинуть все верхние вещи, сложить их в выварку, залить водой и прокипятить (у них был киловаттный кипятильник, который за полчаса вскипятил выварку воды), а остальные вещи — футболку, трусы, носки «пробить» на наличие насекомых и гнид. Боже! У меня их был море! Но Вовчик сказал, что ничего страшного, потому что это проблема практически всех, кто приезжает из ИВС и КПЗ райотделов. «Проваришься, хорошенько «пробъешься» и все будет в порядке!»
Узнав, что я никогда ранее не был судим и что «заехал» в хату с хозяйственной статьей, Вовчик успокоился и спросил, не голоден ли я. Как волк! Мне дали бутерброд с колбасой, кусок сала, луковицу, заварили кипятильником в кружке чай. Когда мой желудок начал работать, меня тут же потянуло в сон, и я увалился на свою нару. Было уже часов девять вечера, и я проспал до утра сном младенца.
Отбоев и подъемов в СИЗО нет, зато день и ночь горит над дверью «залупа» — 150-ваттная лампочка, размещенная в сквозном отверстии с решеткой, включающаяся из коридора.
В 9-00 хаты поочередно начинают выводить на часовую прогулку в специальные прогулочные дворики, находящиеся вне корпуса, на улице. Можно договориться выходить и вечером, в 16-00, но тогда утром хату не выведут: можно гулять только 1 час в день. Дворики — это тоже бетонные мешки, но без крыши, которую заменяет двухслойная решетка, и сетка-рабица, не мешающие рассматривать плывущие по небу облака или понежиться на солнышке, когда оно попадает в дворик. Над ними возвышаются деревянные сооружения, внутри которых бродит охрана. Прогулка, особенно летом, — одно из немногих приятных развлечений в тюрьме.
Теперь немного о «положенном» и «не положенном» подследственному в СИЗО. Кроме сумки, мешка, рюкзака или, на худой конец, целлофанового или даже бумажного пакета, в которые можно было сложить свое барахло, разрешалось иметь: бритвенные и умывальные принадлежности — станок для бритья (если лезвие — «мойку» — находили при шмоне вне станка, сразу можно было угодить в карцер) или электробритву (с конца 80-х в камерах установили электрические розетки), мыло, мочалку, полотенце; минимальный набор лекарств (больным — «свои» лекарства, но никаких сильнодействующих, которые можно использовать как одурманивающие или наркотические средства); свое собственное постельное белье; верхнюю одежду — зимнюю, летнюю, тапки, кроссовки и т.п.; нижнее белье; ручки, тетради, книги — в принципе без ограничения. Сюда же можно отнести продукты более-менее длительного хранения, которые передавали родственники в передачах («дачках», «кабанах») — сало, сухофрукты, чай, копченую колбасу, сыр и т. п., а также сигареты, зажигалку (спички). Можно было иметь свою посуду — эмалированную миску, кружку (пластиковый стакан), алюминиевую ложку (стальную могли забрать, потому что из нее делали отличную заточку), кипятильник для воды. В нашей камере был маленький телевизор «Электроника», который принадлежал одному из Юр и давал ощутимые шансы не сойти с ума. Можно было иметь наручные часы, но дешевенькие, потому что иногда по прихоти шмонщиков их могли и отобрать, хотя это было редкостью.
Запрещены были любые колюще-режущие предметы, в том числе ножницы, поэтому многие за неимением возможности постричься брились налысо. Однако, как выяснилось позже, ножницы можно было попросить через оперативника, за которым числилась хата. Тупые и затасканные, они плохо резали волосы, но все же постричься удавалось. Потом уже меня научили, как можно сносно постричься станком.
Еще одна проблема — обрезание ногтей. Это нужно было делать, забравшись на третью нару (чтобы, не дай Бог, не увидел в глазок охранник), высвобожденным из кассеты лезвием от станка. Ох, и работенка, доложу я вам! Я постоянно резал пальцы рук и особенно ног, пока в конце концов не понял специфику этой сложнейшей операции. Самое главное, обрезать ногти нужно короткими неспешными движениями, не пытаясь за один раз подстричь весь ноготь. Пусть на всю процедуру уйдет час (времени-то — навалом!), зато, может быть, удастся избежать порезов, которые в этих жутких условиях моментально могли начать гнить и превратиться в опасный абсцесс.
Туго в тюрьме приходится тем, кто не курит. Вообще, пытаться бросить в тюрьме курить практически невозможно, скорее, можно начать. В камере обычно выкуривается одна сигарета на двоих для экономии. «Бычки» никогда не выбрасываются в мусор, а собираются в пакет или коробок про запас, чтобы потом, когда курево вдруг закончится, можно было их покурить. В случае «сигаретного голода» бычки «трусят» — разворачивают бумагу и высыпают табак на газету, чтобы потом из него можно было свернуть самокрутку. Я долго учился крутить самокрутки из газетной бумаги — целая школа! Также использовался «телескоп» — бычки вставлялись один в другой и наращивались до длины обычной сигареты. От безделья арестанты курят одну за одной, и дым в хате не выветривается.
В передачах наши родные передавали нам разные продукты, которое нужно было порезать на «пайки» и поделить между всеми. Как это сделать? На самом деле способов было изобретено множество — от суровой нитки до заточенного держака обычной алюминиевой ложки. В харьковском СИЗО, несмотря на регулярные шмоны, почти в каждой камере была тщательно спрятанная «заточка» — кусочек ножовочного полотна, обернутого с одного края тряпицей. Заточенное и хорошо держащее остроту, оно как нельзя лучше подходило для разрезания хлеба, сала, колбасы и тому подобных продуктов. Если в хате при шмоне находили заточку, наверняка кто-то, обычно старший в камере, брал ее на себя и «ехал в карцер» суток на трое. Потом все равно договаривались с хозобслугой — баландерами, и они снова украдкой приносили за соответствующую мзду кусочек полотна. С помощью «заточки» мало кто решал внутрикамерные проблемы — слишком это было серьезно, да и потом после такого ЧП пострадала бы вся тюрьма.
Строжайше запрещено было хранить ценности — кольца, цепочки и т.п. (их обычно отбирали еще в КПЗ), деньги. За хранение денег можно было легко схлопотать 10 суток карцера. Однако далеко не все подчинялись этому внутреннему распорядку. Были и такие, кто глубоко плевал на него в силу тех или иных обстоятельств, но о них ниже.
Весьма интересно течение времени в тюремных стенах. У меня возникало ощущение, что оно иногда словно останавливалось. Особенно это было характерно в первые недели, когда в душе продолжала еще теплиться абсолютно бредовая надежда, что «добрые дяденьки милиционеры» во всем разберутся и меня закажут «с вещами» на свободу. Вы не можете себе представить, в каком экстремальном режиме работает мозг подследственного! И даже если кто-то внешне умеет себя сдерживать и не показывать своих чувств, в его голове все равно творится несусветное — беспрерывно просчитываются варианты ответов следователю, возникают картины бедственного положения родных, бесконечные домыслы о том, что же там наговорили твои «подельники» и тому подобное. Все это ни на секунду не дает расслабиться, и единственным действенным развлечением, кроме телевизора (основное время «просмотра» уходило на попытки настроить каналы с помощью ни черта не берущей антенны, удлиненной с помощью шнура кипятильника), у нас были разговоры «про жизнь» и споры на самые разнообразные темы, иногда заканчивающиеся легкими ссорами. Кстати, все обитатели хаты, словно сговорившись, бережно поддерживали порядок и спокойствие, прекрасно понимая, что многим было достаточно легкой искры, чтобы наделать бед себе и окружающим. И это несмотря на то, что психологическая атмосфера в камере, где вынуждены сидеть вместе несколько человек, которые на свободе не встретились бы вместе даже в своих самых кошмарных снах, мягко говоря, не совсем располагает к закадычной дружбе.
Но иногда царящая в камере мирная атмосфера могла быть нарушена спровоцированными действиями одного из заключенных. Нервы у всех на пределе, и поэтому очень сложно было определить, когда же человек дойдет до того самого предела, за которым у него «падает планка». Провокатором зачастую выступает «курица», мастерски столкнув сокамерников лбами. Внимательно следя за разгорающимися страстями, «курица», вовремя вмешавшись и «разведя рамсы», приобретает очередной довесок к своему авторитету в камере. Хорошо еще, если стукач был подсажен к вам в камеру с целью простого выведывания информации, а не имел совсем другого задания от оперчасти. В свою очередь оперчасть получает задание от следователя или судьи, которым необходимо создать одну из ситуаций, способных каким-то образом повлиять на ход следствия или судебного разбирательства. Это может быть все, что угодно. Например, вы не признаете свою вину и не сдаете своих «подельников». Тогда опера рано или поздно устроят вам «пресс». Для этого у них существует целый «джентльменский набор». Для начала «карусель»: в течение недели-двух каждый день вас «заказывают с вещами» и бросают в разные хаты. Давление на мозги жуткое. В тюрьме имеет огромное значение стабильность вашего бедственного положения, какое-то внутреннее самоуспокоение за счет обустройства в одной из камер, привыкания к ее обитателям, налаженности отношений с ними. И вдруг все рушится в одночасье. Вы понимаете, что это не просто так, но уже до чертиков надоело каждый раз по новой рассказывать о себе, отвечать на вопросы, прыгать с нары на нару, собирать свой нехитрый скарб и снова его раскладывать. Но это еще не все: с «тройников» могли бросить «на первый корпус», т. е. перевести из более-менее сносных условий существования в невыносимый кошмар общей хаты. Меня, Стасова и Знаменного, эта участь минула, но Черноусов таки попал почти на месяц на первый корпус… Рассказывал, что когда вернулся на «тройники», радовался, словно вышел на свободу.
Опять же, ваши продуктовые передачи, которые от таких переездов моментально испарялись — а куда деваться? При «карусели» опера обычно выбирают камеры по большей части одна хуже другой, в которых сидят «галимые» подследственные — ни табака, ни чая, ни передач. Естественно, за знакомство приходилось выкладывать «на общак» часть своих запасов, а то и все, что было. (Гораздо позже я узнал, что многие просто договаривались с операми, чтобы им в камеру забросили кого-нибудь, кто получает «дачки»). Мне «карусель» устроили в ходе судебного разбирательства, как раз перед дачей мною свободных показаний, к которым мне нужно было подготовиться особенно тщательно. За две недели я поменял четыре камеры, потом был небольшой перерыв, и за неделю — еще три. Это им не помогло, и тогда при очередном шмоне в моих брюках «нашли» купон достоинством в 100.000… Я прекрасно знал, кто мне его подкинул, знал и опер, закрепленный за нашей хатой, но, улыбаясь, сказал, что это хранение неположенного, и он должен отреагировать — 10 (!) суток карцера. А у меня в суде свободные показания… Но о карцере я расскажу в свое время.
Следующий способ «прессинга» — переезд в «пресс-хату». Вы попадаете в камеру, в которой сидят 2-3 человека, и которые давно продались оперчасти за какие-то блага и теперь активно на нее работают. По большей части это бывшие спортсмены со здоровенными кулаками. Здесь снова присутствует задание оперов: самым легким будет создание невыносимых для вас условий жизни, в результате чего вы будете стучаться в дверь и просить попкаря позвать опера, чтобы он вас перевел в другую камеру («выломитесь из хаты»). А опер уже, рассказывая вам как это трудно сделать, пообещает помочь, если вы дадите показания на того-то или такие-то. Самым тяжелым последствием может быть так называемое «опускание». Классический вариант — избиение при посещении бани и обливание мочой. После этого по тюрьме быстро распускается слух, что такой-то — «опущенный» (для «опущенного» есть еще одно название — «невыебанный петух»). После этого, даже зная, что человека насильно «опустили» в пресс-хате, никто из заключенных ни в СИЗО, ни в зоне не подаст ему руки и не сядет с ним за стол — назад дороги нет. В тюрьме закон простой: лучше сдохни, но не дай себя в обиду. Кстати, обписаться или опорожнить кишечник от боли при пытках тоже считается недопустимым («бочиной»), и «запоровший бок» сразу переходит в разряд «обиженных». Более подробно об этой ступени тюремной иерархии я расскажу в соответствующей главе.
В принципе, в пресс-хате могут срежиссировать и убийство неугодного подследственного. Но это уже серьезное ЧП и все нужно обставить так, чтобы это выглядело несчастным случаем. За время, когда я находился в Харьковском СИЗО, ничего подобного не произошло, но старожилы рассказывали, что самоубийства в пресс-хатах в прошлом были не такой уж и редкостью… Повторяю: все зависит от задания, поставленного «курам» операми.
И еще один из вариантов. Время от времени закрепленный за хатой опер «дергает» ее обитателей на разговор. Попкарь открывает дверь и звучит команда: «По одному!» Ага, понятно, пришла «оперетта». Здесь преследуется сразу две цели: выслушать жалобы заключенных, так сказать, с глазу на глаз и получить донесение от «курицы». В камере, где понятия не имеют о подсадном стукаче (например, у нас в течение первых недель), долгую задержку кого-то из сокамерников не комментировали вообще. Потом мы знали, что на того, кто задержался дольше всех, может упасть подозрение. И опера специально могли долго разговаривать с кем-то, после чего «курица» начинала сеять в умах сокамерников сомнения: «Слышь, братуха, что-то ты долго с опером базарил… Ты, часом, не барабанишь на оперчасть?» Причем провокатор прекрасно отдавал себе отчет, что подследственный не бросится после этих слов на него с заточкой — он первый раз в тюрьме и понятия не имеет как теперь отмываться. Продолжения обычно не следует, все сводится к шутке, но дело сделано, и сокамерники уже косо посматривают на соседа.