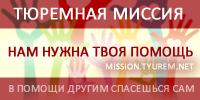следует упрощать игру, лучше накапливать
преимущество».
Э. Гуфельд, международный гроссмейстер.
Сергей, подлец, дал-таки мне пинка, когда я отправился на судовую сборку. Как
обычно, я разозлился, в особенности понимая, что не суждено ему сегодня завладеть
моим поясом, что неизбежно приеду назад, а день предстоит долгий, полный стеснённых
обстоятельств; одно хорошо — пинок почему-то, как всегда, на самочувствии не отразился,
и есть ясность, ни гнать, ни надеяться нет оснований, иди себе арестантской тропой
да кури табак. Поездка в суд была такой же, как с Бутырки, с той лишь разницей,
что на сборку опустили (не путать с «опустили на сборке») не ночью, а утром, не
пришлось высиживать в тусклом дымном дурмане долгие часы, и не было шмона. Тот
же автозэк, набитый до отказа (заехали на Бутырку, подобрали страждущих), тот
же суд, наручники, автоматчик в пуленепробиваемом шлеме, мусора, ещё не пьяные,
а потому сердитые, какая-то судья, заглядывающая в глаза и допытывающаяся, правда
ли я не хочу чтобы заседание состоялось в связи с тем, что присутствует лишь один
адвокат, а Косули нет, те же узкие холодные тусклые коморки с судовыми, теряющими
разум, сиротские ботинки без шнурков как символ унижения, и неизменный сосед с
какой-нибудь экзотической болезнью, от которого стараешься дышать в сторону, в
общем, всё то, что сопутствует правосудию в том или ином незамысловатом виде одного
из филиалов полномочного представительства, скажем так, государства Йотенгейм.
Вся эта коричневая хренотень закончилась поздно. Вечером автозэк заехал на Бутырку,
а там как раз пересменок. Часа четыре автозэк стоял на морозе, большинство пребывало
в самых неудобных позах, было так тесно, что я и не старался стоять, упасть было
невозможно. И очень холодно. Потом автозэк гоняли на скорости вперёд-назад по
тюремному двору: это подвыпивший мусор-хохотунчик учился водить автомобиль. От
разгонов и торможений голова падала в пропасть. После обучения езде автозэк перестал
заводиться, стало вероятным заночевать в нём на дворе Бутырки, отчего приуныла
даже молодёжь. Но всё обошлось, и за полночь в малюсенькой поганой сборке родной
Матросски судовые радостно зашумели за то за сё. Вот рядом оказался парень из
один три пять. Там мы не общались, парень был молчалив и отрешён, его лицо всегда
являло застывшую маску, а здесь ожило.
— Ты же из один три пять? — интересуюсь.
— Да.
— Я тоже у вас был с полгода назад.
— Я помню.
— Осудился?
— Да, семь лет дали. А я не согласен! Я там вообще не при делах. Подельник утопил.
Терпила меня вообще не вспомнил.
— Будешь писать касатку?
— Нет, на зону. Из хаты б выбраться. Всё, хватит.
— Что в хате?
— По-старому.
— Как Армен? Передай ему привет, скажи: не помощник я ему. Он-то думал: меня на
волю.
— Передам.
— Кто ещё осудился?
— Ахмед. Девятнадцать дали. Юра-хлеборез восемь строгого получил и семь крытой.
Уехал крысой.
— Как крысой?
— Да так. В чужой баул залез, скрысил. Увидели.
— И что?
— Под шконарь загнали. Хлеборез теперь другой.
— А он? Там же тараканы сожрут.
— Спокойно. Да, говорит, я крыса. Опустился совсем.
— А Строгий как? Куролесит?
— Спиртягу гонит. Строгий — куражный пацан.
— Сколько ему ещё?
— Не знаю, года два.
— Саша-то на суды всё ездит? Живой?
— Это Старый-то? Живой. Этот вытянет.
— А Бешеный?
— Нормально. Они с Сашей.
— Кипеж не осудился?
— Не, на дороге.
— Всей хате большой привет и свободы.
— Передам.
Расстались. Он пошёл в суперкошмарную хату № 135, чтобы собрать баул и уйти в
осужденку, а я, с благотворным сознанием своей почти что неуязвимости, на больничку.
Смешно было видеть, какими глазами меня встретил Сергей. Мой пояс был уже на нём.
— «Вернулся…» — констатировал он. И полетели, е…. мать, масти перелётными птицами,
и закурился табак по хате, и замлели в смертельном и сладком невольничьем недуге
каторжане! Долго горела чёрным пламенем ночь, бог весть какие пожары плавили бетон
между спидовым этажом женским и спидовым мужским. Молчали вертухаи, глядя в шнифты,
как два зэка швыряют тузов и посылают мусоров на х.. . Никто не открыл тормозов,
ибо горячо было для них за порогом. «Это тебе, Володь, повезло» ? скажет вертухай,
читая эти строки. И будет, наверно,А прав. Где ты теперь, Серёга. И тебе я, братан,
не помощник. Хотел бы, да не могу. Ну, да ты пробьёшься. Не в этой жизни, так
в другой. По-любому арестантский тебе привет и всем достойным, кто рядом.
Настало утро, утро туманное, утро седое. Робкий мусор бодрячком быстренько осуществил
проверку. Оставалось лишь сбросить с себя пепел вулкана. На обширном дальняке
с очком вместо унитаза удалось классно помыться, кипятя воду в хозяйке. В общую
баню («помойку») идти не хотелось, да и не звали. Раз в неделю на продоле в клетке
за перегородкой можно было помыться, видя иногда, как перед тобой там ополаскивают
полутрупы.
Зашли в хату две колоритные личности. Высокий усатый арестант с нездоровым цветом
лица, едва переставляя ноги, затащил большой баул и радушно, будто достиг долгожданной
цели (а это так и было), поприветствовал всех: «Здравствуйте, каторжане! Куда
тут можно голову приклонить?» — «А куда хочешь, места много». Юра явил собой пример
словоохотливого наркомана. Язык у Юры оказался без костей, но сердиться не было
никакой возможности, хотя через пару часов все наслушались по горло про то, как
Юра зарядил «машину», пустил по вене (не путать с «пустил по тухлой вене»), как
поймал приход, как кумарился когда приняли, как раскумарился в хате, как пошёл
на дело по Тверской, а машина всегда при нём, в кармане, как стало невмочь и опять
поймал приход, как старая мама ругает, а машина в кармане и в соседней комнате
зарядился белым, а когда белого нет, так на безрыбье и винтом хочется побаловаться,
но винт — это низко, поэтому, бабки не жалеючи, уж лучше морфия, а луше белого
так и нет ничего, благо машина всегда тут, в кармане, у него и сейчас есть машина.
И так далее и тому подобное. Чтоб слишком часто не повторяться, всё это Юра перемежал
длинными периодами мата. Выглядело смешно. Особенно когда я в сердцах восклицал:
— Юра! (Так, мол, и так). Какого (так, мол, и так) ты так грязно ругаешься! У
тебя совесть есть? Ты всех уже (так мол и так)!
— Ой, извини! — спохватывался Юра. — И то правда! Я больше не буду.
Пять минут передышки было обеспечено. Ну, что тут скажешь. Одно слово — Коля-Терминатор
Второй.
Другой арестант сразу залёг спать, а проснувшись, внимательно исподтишка оглядел
каждого и долго пребывал в напряжении, преувеличивая симптомы своей болезни, выглядевшей
обычной простудой. Потом успокоился и пошёл на контакт. Оказался полосатым. Представился:
«Валера О.О.Р». Что означает особо опасный рецидивист. Почему-то ко мне Валера
поначалу отнёсся с опаской; наверно, потому что я курил дорогие сигареты, вёл
себя уверенно, если не нагло, и даже устроил на всю хату разнос стукачу с общака,
неожиданно для себя отметив, что претендую в коллективе на лидерство. «А оно мне
надо?» — сказал я себе, осадил коня и взялся за старое, т.е. за игру, потому что
как только начинаешь думать, что ты самый умный, обязательно случается какая-нибудь
глупость. Валера присоединился к нам, и дело пошло веселей.
— Сколько тебе лет? — поинтересовался Сергей.
— Пятьдесят восемь. Тридцать лет в тюрьмах и лагерях.
— А не скажешь. Выглядишь на сорок-сорок пять.
— Тюрьма сохраняет.
— За что сидел?
— За карман.
— Тридцать лет за карман?
— Да. Карман доказать легко. — При этом невооружённым взглядом было видно, что
в этой непростой жизни только карманом не обошлось.
Неспешно и с удовольствием тасовал Валера колоду старыми узловатыми и неповоротливыми
пальцами, складно мурлыкая русские романсы, а когда повествовал о чём-либо, меньше
трёх этажей не получалось по определению. Серёга к Валере отнёсся с уважением,
как младший к старшему.
— Что, Валера, по воле работал?
— Да что ты… — благодушно отзывался Валера.
— Значит, делал?
— Делал, — соглашался Валера.
— Поди и в карты можешь?
— Как не мочь. Я сколько времени в лагерях. Конечно, могу, отвечал Валера, сдавая
карты.
— Покажешь? — не унимался Сергей, напрягаясь как охотник.
— Ну, если хотите… — отвечал Валера, — Правда, я уже не тот, годы, руки отяжелели.
Но сейчас что-нибудь придумаю.
До этого мы играли в дурака. Валера разделил уже лежавшую перед нами колоду и
показал, сам не глядя, карту из середины, после чего вернул карту на место. Это
был червонный туз. «А теперь смотрите» — сказал Валера. Мы в четыре глаза уставились
на его руки. Одной рукой он держал розданные карты, другой неуклюже поправлял
их, потом свободную руку поднял чуть выше плеча, внешней стороной к нам, будто
в ней что-то было, медленно развернул к нам ладонь, она была пуста. Но через секунду
в ней загорелся, нет, не появился, а загорелся, ярко как на цветном экране, червонный,
как ненастоящий, туз. Вспыхнул и пропал, а Валера недоумённо посмотрел на свою
ладонь, повертел её так и сяк, ничего в ней не было. — «Вот что творит старый
джус!» — восхищённо выдохнул Сергей и бросился искать туза в колоде. Туз был там.
— Валера, — говорю, — с тобой играть нельзя.
— Конечно, нельзя. Но мы же отдыхаем. Мы же для души.
Для души Валера играл обычно, но с таким удовольствием, что любо-дорого было смотреть.
Зашёл в хату Миша Ангел из камеры строгого режима. Впечатляющего роста, с огромными
кулаками, Миша, сияя от радости, что попал на больницу, весело и добродушно рассказывал,
как у них в хате собирается общее на больницу, что ни у кого нет постоянного места,
каждый отдыхает на свободной в данный момент шконке. — «И каждый себе на уме!
— восторженно восклицает Миша. — Думает одно, а говорит совсем другое». — «А делает
третье» — добавляю я. — «Вот именно! — радуется формулировке Миша. — А Вы верующий?
Это у Вас евангелие?» — «Нет, Михаил, это словарь немецкого языка, но для меня
он в каком-то смысле евангелие». — «А это что — немецкая газета? Вы её читаете?»
— «Да, занёс от адвоката». — «У Вас вольный или мусорской?» — «Вольный». — «Статья
у Вас?» — «Тяжкая». — «Убийство, что ли? На Вас непохоже». — «Нет, экономическая».
— «Во! — оживился Миша. — Научите чему-нибудь! Вас как, можно причислить к коммерсантам?»
— «Нет, нельзя». — «Ну и слава богу. А то я уж подумал: коммерс. А на коммерса
тоже не похоже». — «Чем же тебе, Михаил, коммерс не показался, неужто так его
не любишь?» — «Коммерса, Алексей Николаевич, надо доить, и показаться он не может
по понятиям. Только вот обломы с ними сплошные: скользкие, съезжают. В руку возьмёшь,
а его уже нет. Может, чему научите? У Вас статья, поди, лет на десять тянет?»
— «Именно на десять. Но я и статья — вещи не только разные, но и не совместимые.
А коммерса, хоть и не знаток я, ты не одолеешь. Ты думаешь, он глупее тебя? Если
он заработал большие деньги, значит что-то умеет. И ты думаешь, он не найдёт способ
обмануть тебя?» — «А что же делать?» — забеспокоился Миша. — «Не знаю. Но думаю,
что дружить. Если он увидит в тебе товарища, то и отношение другое». — «Это я
буду дружить с коммерсом?» — «Никто не заставляет. Тебе что нужно? Результат.
А что ты думаешь на самом деле — это, кроме тебя, никому знать не обязательно».
— «Я понял! — просветлел Миша Ангел. — Я теперь всё по-другому поставлю». — «Скоро
на волю?» — «Пустяки, лет через шесть. Мне двадцать один. Не возраст! А Вы всегда
«Парламент» курите?» — «По возможности». — «Сейчас, вижу, такая возможность есть?»
— «Без проблем» — беру из тумбочки пачку, протягиваю Мише. — «От души». — «На
здоровье».
«С коммерсом надо дружить, — слышу через день, как поучает кого-то на другом краю
хаты Миша, — он умный и по-другому с ним смысла нет: один раз выдоишь, другой
уже не удастся. Все умные. Вон у нас в строгой хате не расслабишься: каждый говорит
одно, думает другое, а делает третье!» На оптимистичные речи Миши Ангела равномерно
накладывались рассказы Юры, как он зарядил машину и поймал приход. Всё это прореживалось
многоярусным матом Валеры ООР и доминировало в нестройном гуле голосов каких-то
иных арестантов. Мне же думалось: неужели так привык к тюрьме, что ни с кем больше
не будет конфликтов? Ёкараный бабай! — только подумаешь — сразу получишь: открылись
тормоза, и в хату залетели как на крыльях семеро грузин. — «Ой, больно мне! Вах!
Как болит голова!» — кричал один, двигаясь к решке и водворяясь на кровати Сергея.
А остальные, выкрикивая лозунги по понятиям, разогнали молодёжь. Беззаботность
из хаты испарилась в момент, стало тихо, и все как будто видят друг друга впервые.
Сергей пошёл гулять по хате, Валера прилёг, Миша Ангел тоже, Юра замолк, а я лежал
на кровати и соображал, что моё место прямо под решкой, и, наверно, что-то произойдёт,
потому что грузинский десант вёл себя слаженно и хамовито. — «А этот что тут делает?
— обратился к хате самый авторитетный из десанта и поставил свой баул мне в ноги.
— Он чево, блатной в натуре? Я его насквозь вижу, он пассажир, и его место у тормозов».
Никто не отозвался на вопрос, и я понял, что надо собирать остатки здоровья. С
кровати я, в таком разрезе, не уйду, и дело добром не кончится. С полчаса прошло
в неприязненном напряжении. Никто не знакомился, грузины, кроме своих, никого
в упор не видели и наглели на глазах. Наш коллектив распался. Положение усугубилось
тем, что Сергей обратился к новенькому: «Я прилягу, ты перейди на другое место».
— «А ты кто такой? Ты, генацвале, чё на тюрьме — пассажир? Законов не знаешь?
Не видишь — у меня голова болит?» — «Ну, если болит, — согласился Сергей, тогда
полежи немного. Но мне пора отдыхать». — «Эй, ты чё? Тебе? Пора? Отдыхать? Ты
видишь: я здесь. Чё ты хочешь?» — «Ну, это моё место, — тихо, можно сказать, скромно
стал пояснять Сергей, — я здесь отдыхал и прошу тебя перейти на другое место,
места ещё есть». — «Ты сам иди в эти места. Моё место у решки. Ты вообще из какой
хаты?» — «Я из этой» — также скромно ответил Сергей. — «Ну, так и тусуйся, а я
здесь останусь». — «Хорошо, — ответил Сергей. — только не долго» — и отошёл. Самый
авторитетный решил закончить расселение:
— Вставай, я буду стелить постель.
Я промолчал.
— Ты что, оглох? Я сказал: буду стелить постель.
Это относилось ко мне.
— Я уже постелил, — ответил я и закурил от нахлынувшей ненависти.
— Что-что?? — раскрыл рот от изумления грузин. — Что ты сказал?
— Я сказал, что бельё у меня есть, и моя постель уже застелена.
— Ты что — дурак?
— Нет, — ответил я.
В могучем рывке с перекошенным лицом грузин бросился на меня, а я, понимая, что
он слишком здоров и крепок для меня, рассчитывать ни на что не мог. Всё, что у
меня было, это — ненависть. Но произошло непредвиденное. Слева метнулась одна
фигура, справа другая, их плечи сомкнулись жёстко, как двери вагона метро, и грузин,
ударившись о них, отлетел назад. Фигуры разомкнулись. — «Я — Миша Ангел. Из строгой
хаты» — сказала первая фигура, подняв могучую длань, готовую как для удара, так
и для рукопожатия. — «А я Валера. ООР» — с достоинством отрекомендовалась вторая
фигура. Недоумение и страх отразились на лице грузина, он глядел по сторонам,
ища поддержки, страдая от унижения. Между тем, рядом оказался и Сергей, и стало
особенно заметно, что парень он подстать Мише. Даже Юра подтянулся из своей берлоги.
— Дело в том, что мы его немного знаем, — вежливо объяснил Миша Ангел.
— Да, — подтвердил Валера ООР.
— Если хочешь, — продолжил Михаил, — можешь располагать моей койкой, ты видишь,
она тоже недалеко от решки.
Но парень лишь пробормотал что-то и смиренно расположился на свободном месте.
После чего грузины затухли как свечки на ветру, и Серёгино место освободилось
само собой. Всю эту скоропостижную грозу я наблюдал лёжа на кровати, но отчётливо
понимал, что опасность была реальной, но на сей раз мне повезло, потому что выяснилось,
что в хате у меня есть друзья. Выписали грузин чуть ли не на следующий день. Остался
только Малхаз, тот самый, и скоро выяснилось, что, в сущности, он дружелюбный
парень, отношения стали приятельскими, и он даже с радостью согласился учить меня
грузинскому языку, но учитель из него оказался, к сожалению, никакой.
Пришло время возвращаться на Бутырку. Когда Ирина Николаевна сообщила об этом,
я попросил передать Косуле, которому уже запретил показываться мне на глаза, что
на Бутырке я согласен быть только на больничке, и не дольше десяти дней; это было
мне обещано, наряду с просьбой потерпеть, ибо Суков рассматривает возможность
освободить меня под залог. Вызвали к врачу.
— Дольше Вас, Павлов, у нас никто и не бывает. Не возражаете?
— Нет, не возражаю.
— Значит, завтра? Да?
— Да.
— Как чувствуете себя?
— Признаться, лучше.
— И хорошо. Мы вас выписываем под наблюдение невропатолога.
А вот это серьёзная победа. С такой записью в медкарточке на всю столицу в тюрьмах
единицы. Это значит, что общак мне противопоказан, и путь на больницу открыт всегда.
Шагая из кабинета врачей по светлому коридору к своей камере, я чувствовал, что
тропа пошла вниз. Принято считать, что героизм альпинисты проявляют на восхождении.
Мне всегда казалось, что настоящий героизм — это подъём груза на перевал в период
акклиматизации. Когда, например, рюкзак весит шестьдесят килограммов, и ты его
тягаешь на себе под небеса, борясь со слабостью, тошнотой, головной болью, усталостью
и отвращением к горам, когда каждя секунда тяжела, а десять часов черепашьего
шага вверх становятся длинными до изнеможения. Потом вдруг выясняется, что ты
на перевале, дальше только вниз, после чего всё твоё существо ни за какие блага
не согласно сделать ни шага наверх, но отсутствие такой необходимости даёт благодетельное
осознание факта: как хорошо, что дальше будет не так тяжело, хотя и не легко.
И солнечный мир гор начинает радовать, как только что прошедшая зубная боль. На
больничке Матросской Тишины о солнечном мире можно было лишь вспоминать, но ощущение
перевала было явственно. На сборку позвали ночью, уходил я спокойно, без сожалений,
сказав всем, что скоро вернусь, и в шутку добавил: койку оставьте за мной.
Никогда не догадаешься, что в тюрьме случайно, что нет. Скорее, закономерно всё,
и если не информацию, то совокупность твоих реакций на ситуации, на сказанное
слово, на жест, на взгляд, на потенциальные и фактические угрозы специалисты изучат
со всей внимательностью; не думай, что ты забыт и заброшен в средневековых казематах,
хрена лысого — на тебя, как на насекомое, смотрят в увеличительное стекло. И ещё:
здесь не жалеют. Я желаю тебе, русский арестант, держаться и быть достойным испытания,
выпавшего тебе.
На сборке в уголочке скромно сидит Вова. Встреча и удивляет, и нет. Володя не
сильно рад: он знает, что случайность маловероятна и, видимо, судит по себе: а
вдруг я призван работать с ним. Поэтому разговор эфемерен, Володе на суд, а тут
я. К обоюдному удовольствию, звучит фамилия Павлов, и я ухожу на другую сборку,
где все с больницы. Несколько человек после операции, у них известная картина:
длинный вертикальный шрам через всё брюхо, и ещё не сняты швы, которые ребята
озабоченно разглядывают, раздевшись по пояс. Бодрый арестант радостно оповещает
всех, что вылечился от сифилиса, и теперь его на общак не отправят, потому что
он был на больнице. Ему никто не возражает: гонит. К тому же мысль об общаке занимает
каждого. В автозэке народу не много, все молчат и курят, лишь негр шумно протестует,
что его везут не туда. Становится понятно, что он из судовых. Теперь, по чьей-то
ошибке или умыслу, долго сидеть ему до следующего суда. Негр хорошо говорит по-русски,
но охранники и ухом не ведут.
На Бутырке всё та же сборка, через которую проходят десятки, сотни тысяч, тысячи
тысяч, миллионы арестантов. А сборка не меняется, такая же тусклая под тёмными
сводами, пропитанная грязью и людскими страданиями, много повидавшая на своём
веку. Здесь опять через неказистую деревянную дверь все по очереди в маленький,
чуть менее тусклый врачебный кабинет, в котором врачей двое, среди них узнаю женщину,
которая в своё время говорила «мы ещё посмотрим».
— Как Вы себя чувствуете, Павлов? Лечение Вам помогло? Или нет? — спросила она,
прочитав мою медкарту, и сразу отлегло: интонации говорили в мою пользу.
— Да, немного помогло, но случилась маленькая неприятность: час назад пришлось
выпрыгивать из машины. Результат видите.
Конвоиры были не в духе и металлической лесенкой для высадки из автозэка пренебрегли.
Я указал им на это, и услышал в ответ: «Па-ашёл!» Чтобы опередить гада, собравшегося
вытолкнуть меня, я выпрыгнул на улицу. В принципе, повезло, так как был туго затянут
в бандажный пояс, но всё равно перекосило, и я валялся на укатанном снегу, с неприятным
удивлением наблюдая, как прыгают на землю ребята с свежезашитыми животами.
— Ясно, — сказала женщина и сделала в медкарте запись.
Среди присутствующих на сборке выделялся человек в отглаженном костюме и белой
рубашке, явно с воли. Интересуюсь: «По какой статье заехал?» — «Разжигание национальной
розни, — говорит дядька, — прямо с демонстрации забрали. Меня уже два раза предупреждали:
если буду лезть в политику, посадят. Вот посадили». Забавно. Таких ещё не видел.
— «И кто ж предупреждал?» — «Судья. Они дело завели…» — последовал бесконечный
рассказ человека на гонках. Короче, з…. парень участкового своей политической
активностью. Так что быть костюму не судьба.
В процедуру медосмотра на Бутырке входит осмотр полового члена арестанта. Для
этого пришла молодая дама и, стоя за открытой дверью под защитой вертухая, потребовала
от всех по очереди (всё с тем же непостижимым интересом) снять штаны и предъявить
член, а так как освещение и в коридоре неважное, внимательно вглядывалась в объект.
Негр стал объяснять, что он ехал на суд, что зовут его не так, как называют, что
он здесь по ошибке. Вертухай благосклонно не реагировал. Женщина слушала внимательно
и довольно долго, и вдруг как заорёт на всё подземелье:
— Член показывай!!!
Негр показал. Женщина ушла. Вертухай потребовал шнурки, негр, объясняя, что он
ехал на суд, что он здесь по ошибке, стал разуваться.
— Он с Матросски, — сказал я, подойдя к двери. Из сто тридцатой камеры. Судовой.
— Да? — с интересом откликнулся вертухай. — А зовут его как?
— Как тебя зовут? — задал я вопрос негру.
— Мухамад.
— Мухамадом его зовут.
— А в карточке не так. Вы вместе приехали? С Матросски?
— Ну да.
— Мухамад, какая у тебя фамилия? Да, действительно, не та. А по фотографии такой
же. Ладно, назад поедешь.
Ближе к ночи перевели на другую сборку. Предыдущая была без шконок, с лавочкой
по периметру, здесь же в один ярус шконки, довольно тепло. Тоже знакомое место.
Народ образует стихийные группы: братва (естественно, у решки, несмотря на то,
что она глухая и дышать там в дыму и чаду тяжело; уже кто-то раздирает на полосы
полотенце, поджигает его и делает чифир), ребята с зашитыми животами образуют
отдельную группу, наркоманы находят свой общий язык. Я успеваю занять шконку ближе
к середине. Рядом два наркомана озабоченно с энтузиазмом толкут какие-то таблетки,
по очереди втыкают в вену бабочку и несут свою бесконечную наркоманскую околесицу.
От их одинаковых восторженных рассказов о том, как достали, как приготовили, как
зарядили и пустили по вене, как поймали приход и т.п., можно одуреть. Зачем им
тюрьма, они и так себя наказали. К двоим присоединяется третий и говорит мне:
— Ты подвинься, мы тут вместе.
— Сам подвинься, — отзываюсь я. Подвигаться неохота: на метр дальше уже слишком
воняет от унитаза.
Парень ошеломлён, масса эмоций отражается на его лице, но, не рискуя связываться
с бородатым, воздевает руки и выражает крайнюю степень недовольства:
— Я в шоке!
На том конфликт и заканчивается, наркоманы устраиваются втроём на двух шконках.
Через несколько часов на сборке воцаряется редкая благодетельная тишина, в которой
слышен лишь шорох гоняющих по спящим телам крыс.
Глубокой ночью на продоле раздались пьяные голоса, обстановка резко изменилась,
и вот я уже спешу на выход, но так, чтобы не быть первым или последним, по той
причине, что на сборку ворвался давний знакомый и с развевающимися ленточками
какой-то спецназовской бескозырки пролетел по шконкам, топча тех, кто не успел
подняться.
— На коридор, бляди! — орал вертухай, встав у двери и встречая каждого ударом
в грудь или живот. Мне повезло, я был уже на продоле. Зашитые, вообще медленно
передвигавшиеся, оказались среди последних. Можно было только предполагать, что
будет дальше, когда первый из зашитых получил удар в живот. Смотреть я не стал.
С криками и оскорблениями нас загнали в пустую, страшно холодную камеру с двумя
ярусами шконок и массой тараканов. Шконки были как примороженные, сидеть на них
решились только зашитые, не говорящие ни слова, мертвенно бледные, бережно державшие
руками свои животы. Между прочим, когда их били, ни один из них не проронил ни
звука. Глядя на них, создавалось впечатление, что они смотрят за какую-то невидимую
нам стену и видят тоже что-то невидимое нам. До утренней проверки, чтобы согреться,
ходили по камере, а на проверку нас пригласил всё тот же вертухай. Видимо, насытившись,
он слегка побил тех, кто ему чем-то не понравился, а не нравилось ему, в основном,
то, что на него смотрят, и перегнал нас в другую, уже не столь холодную сборку.
На него снизошло благостно-философское настроение, и, пока заходили остальные,
вертухай, встав в позу собственника, душевно спрашивал пожилого азербайджанца:
— Послушай, Володь, как ты думаешь, почему они такие пиздоголовые? Как ты думаешь,
они всегда такими были или со временем стали? А, Володь?
Азербайджанец «Володя», размышляя, вломят ему сейчас или нет, развёл руками.
— Ладно, Володь, иди к ним. А всё-таки подумай. Интересно.
Так наступила очередная бутырская пятница. Долго ли, коротко ли, а начали поднимать
в хаты. Вот здесь и замирает сердце арестанта. Потянулась череда коридоров и закоулков
общака, мимо плывут знакомые цифры, и ноль шесть тут, и девять четыре, и обиженки,
номера которых знает каждый арестант. Вертухай останавливается, оглашает список,
и всё — нет человека, летит человек в тартарары, как по заклинанию колдуна. Тень
бежит по лицам услышавших свою фамилию, и захлопываются за ними огромные коричневые
тормоза. «Нет, меня на спец, я после больницы, меня на общак нельзя» — при каждом
удобном случае вслух гонит бывший сифилитик, но и его поглощает утроба общака.
А когда туда же уходят и зашитые, я бессильно закрываю глаза, в голове становится
тоскливо и пусто. До спеца добирается лишь небольшая группа, и здесь меняется
всё: вертухай уходит за поворот продола, арестанты растягиваются по коридору,
один приникает к шнифтам хаты, зовёт кого-то и быстро сдавленным голосом говорит:
«Всё договорено, через два дня тебя переведут на больницу». Бредущий последним
с огромным баулом бородатый арестант желчно разговаривает сам с собой:
— Блядь! Опять спец! Опять строгая изоляция!
— Давно на тюрьме? — сочувственно интересуется кто-то.
— Давно?! — нервно переспрашивает бородатый. — Три года на корпусе ФСБ! Даже в
автозэке одного везли!
— У тебя курить есть?
— Нет у меня ни хуя! Опять, блядь, строгая изоляция!
Тем не менее, парень останавливается и дрожащими руками выбрасывает из баула пачку
за пачкой.
— От души, братан! Хорош, оставь себе.
— Строгая изоляция! — в тоске повторяет парень.
За поворотом продола меня манит пальцем вертухай и, показывая глазами на того,
который только что словился с приятелем, тихо говорит:
— Он подходил к камере? Разговаривал? О чём?
— Хуй его знает, я за ним не пасу. Он вообще сзади меня шёл.
— Правильно, — удовлетворённо говорит вертухай, — нельзя закладывать товарищей
по несчастью, пошли со мной.
Ну, думаю, будет мне сейчас спец. Но соседний коридор оказался больничным, а камера,
в которую я зашёл, одной из тех, где я уже был, и зашёл я в неё как домой, с удовольствием
отметив, что народ в хате подобрался приличный, а место под решкой как будто было
приготовлено для меня. Через пару часов хату разгрузили, и осталось нас буквально
пятеро на семь шконарей. С тех пор, как у меня появился бандажный пояс, который
прямо подпадает под определение запрета, он стал, вкупе с немалым сроком на тюрьме
и тяжким обвинением, визитной карточкой моей арестантской авторитетности. Даже
вертухаи изредка уважительно интересовались, кто мне его разрешил, на что я отвечал,
что лично начальник тюрьмы. Затяжная партия перешла в эндшпиль. Дебют и миттельшпиль
я мог считать за собой, и очень надеялся провести пешку в ферзи, несмотря на то,
что партия играется вслепую, без доски, а соперник у меня — многоглавый дракон,
ёбнутый на всю башку вампир, корыстный самодур и исторический недоносок — государство
Йотенгейм. Итак, немного на Бутырке, потом снова на Матросску, а дальше на суд
и — или на свободу, или к новым голодовкам.
В хате обреталась, по большей части, молодёжь. Был и совершенно напуганный человек
постарше, похожий на якута, не говорящий по-русски, но с неуловимо-властными манерами,
выказывающими человека не простого. Напуганный — сказано не верно, потрясённый
— правильно. Что-то он пытался объяснить по-английски, но хата, включая меня,
ни в зуб ногой. Тогда дядька достал газетную вырезку, и из статьи стало ясно,
что он — вице-мэр города Багио, известнейший филиппинский врач в области нетрадиционной
медицины, приехал в Россию к русской жене и получил из-за неудачной операции обвинение
в умышленном убийстве. Жестами вице-мэр города Багио объяснил мне, что перед этим
он был в каком-то страшном месте, где творятся нечеловеческие ужасы, там у него
случился сердечный приступ, и он очнулся здесь. Несложно было понять, что доктор
побывал на общаке. Что ж, такая у тебя судьба, доктор. Беседовали мы долго, выглядело,
наверно, смешно, но мы понимали друг друга. Ночью одному парнишке с больной печенью
и сердечной недостаточностью стало плохо. Парень позеленел, почти перестал дышать.
Я проверил его пульс, он был слабым, с заметными перебоями. Было видно, что парень
умирает. Мы забарабанили в тормоза, старшой отозвался и, довольно сочувственно,
сказал, что до утра шуметь без толку: врачей нет. — «А дежурный?!» — закричали
мы. — «Пойду, поищу». — Через некоторое время старшой вернулся и вполне определённо
сказал: «Нет, ребята, бесполезно». Я посмотрел на филиппинца. Тот отрицательно
покачал головой. Я ему: «Неужели не можешь?!» Несколько секунд он раздумывал с
опущенными веками, потом решительно поднялся и очень доходчиво жестами объяснил
всем, что всё, что он может сделать, это пощупать пульс, и ничего больше. И посмотрел
мне в глаза. «Давай, не бойся» — ответил взглядом я. С этой секунды филиппинец
преобразился, лицо приняло неожиданно властное выражение и застыло как маска.
Он сделал жест: нужны часы. Часы были у меня. Филиппинец взял руку больного, погрузился
в созерцание циферблата. В течение одной минуты щёки больного порозовели, он задышал
ровно, открыл глаза. А филиппинец отпустил его руку, отдал мне часы и выразительно
пожал плечами: пульс, мол, нормальный, повода для беспокойства нет. Необычное
выражение лица врача исчезло. Через пять минут парень смог выпить воды, а через
час сидел за дубком и разговаривал. Филиппинец что-то писал в тетрадь и молился;
оказалось, он христианской веры. Приходил вертухай, интересовался, как там у нас.—
«Вот видите, а вы шумели: «Умирает!» Обошлось же». На лампочку под потолком надели
коробку от блока сигарет, в камере воцарился приятный полумрак, и все залегли,
кто как мог, на неизменно голые шконки и заснули.
Когда заскрежетали к проверке тормоза, не все отреагировали сразу. Почти воскресший
ночью парнишка, приподнявшись на шконке, пытался понять происходящее. Остальные
уже стояли с руками за спину. Вошёл огромный мусор, совершенно добродушного виду.
Так же добродушно оглядел всех и не торопясь сгрёб левой рукой уже сидевшего,
но ещё не вставшего парня за грудки, без труда приподнял и, тяжёлым маятником
отведя правую руку, пару раз бесшумно двинул парня кулачищем в живот и бросил
на пол.
— Что же вы, господа, не уважаете представителя власти? Я — представляю власть.
Арестанты стояли, молча усваивая науку ненависти.
С тех пор, как пришлось прыгнуть из автозэка, гулять я не ходил, передвигаться
удавалось едва-едва, поэтому развлечений оставалось искать в шашках, шахматах,
нардах, сигаретах и надеждах. Происходили события, велись беседы, переживались
чувства и плавились мысли, текла жизнь арестанта, и всё, её наполнявшее, не стоило
шага по ночному Арбату. На пути, конечно, к международному аэропорту.