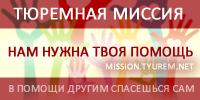Это удивительное государство у всего цивилизованного мира вызывает чувство глубокого
недоумения. Русский арестант, сидит ли за что-то, или, как говорят все следственно-арестованные,
ни за что, тоже чувствует себя в зазеркалье, по ту сторону действительности, как
Алиса в стране чудес, с той лишь разницей, что зеркала и чудеса в русском цугундере
грязные и подванивают. Но здесь происходит акт массового очищения грязью, и люди
становятся людьми, как никогда и нигде на просторах России (из чего можно заключить,
что мудрые правители проводят по отношению к своему народу единственно верную
политику).
Как-то раз тюремным вечерком делать было нечего, и я взялся за научные опыты,
с целью вовлечь в них филлипинца — думал, может, удастся увидеть что-либо необычное.
При весьма ограниченных технических средствах, среди холодных чёрных шконок бутырской
больнички, на свет была извлечена иголка. Если у арестанта есть иголка, к нему
обращаются, на него смотрят положительно. У меня иголка была. Далее всё по Перельману,
«Занимательная физика». Сложенный вчетверо и развёрнутый листок бумаги центральной
точкой помещается на остриё иголки (её воткнули вверх ногами в обложку тетради.
Арестанты собрались вокруг, всем было любопытно, что будет дальше. Объяснять я
ничего не стал, лишь велел никому не шевелиться и аккуратно дышать, чтобы не было
ни дуновения ветерка. Смысл в том, чтобы поднести к листку на иголке ладонь, как
бы прикрывая ею огонь свечи от ветра. В зависимости от силы биополя человека,
листок может начать вращение. Я попросил поднести руку парня, чудесно исцелившегося
ночью и битого утром. Выглядел он как амёба, и листок на него не отреагировал,
даже не шелохнулся. Тогда попробовал я. Листок сделал оборот вокруг оси. Всем
стало интересно, по очереди потянулись руки. Как и следовало ожидать, в глазах
филлипинца вспыхнула искорка, он решительно подошёл, протянул руку. Жест его был
чуть-чуть нетерпеливым, назидательным и уверенным: мол, вот так надо. Он оказался
прав. Листок под ладонью доктора завертелся быстро и равномерно, несмотря на то,
что был из тяжёлой тетрадной бумаги, а не из папиросной, как рекомендует Перельман.
От руки филлипинца явно исходила ровная сильная энергия. Арестанты восхищённо
смотрели, как кружится листок. Цель эксперимента была достигнута. Трудно объяснить,
почему, но возникший энтузиазм дал мне уверенность, что я смогу сделать нечто
иное, практически невероятное, о чём лишь читал, но я не сомневался. Дав знак,
чтобы никто не шевелился, я протянул руку над листком, сантиметрах в тридцати-сорока
над ним, и попытался почувствовать его. Это удалось. Пространство между ладонью
и листком сделалось чуть плотнее воздуха, и я стал скручивать его по часовой стрелке,
заставляя повиноваться, вкладывая столько же сил, как если бы туго закручивал
кран. Могло бы выглядеть комично, если бы не произошло то, от чего захолонуло
в груди: листок дёрнулся и стал вращаться с той же скоростью, с которой поворачивалась
ладонь со скрюченными от напряжения пальцами. Не верилось глазам, и я стал скручивать
пространство против часовой стрелки. Листок послушно, хотя и на крайнем моменте
напряжения, пошёл против часовой стрелки. Чтобы получить полное доказательство,
я крутанул его ещё раз по часовой. Сомнений не осталось, сил тоже. Я поднял взгляд.
Все молчали. Филлипинец побледнел и выглядел взволнованным. «Всё, — сказал я,
— на сегодня хватит» — и все, по-прежнему молча, разошлись. Филлипинец достал
тетрадь и быстрым крупным почерком весь вечер самоуглублённо писал в ней.
Бутырское утро свеженько напомнило нам, что никакие удивительные способности и
бывшие заслуги не помешают нам встать перед проверяющим с руками за спину, а вся
наша свобода воли — это молчать. — «У вас всё в порядке? — спросил проверяющий.
— Что молчите? Я спрашиваю, всё ли в порядке. Молчите? Ну, молчите…» Что ж, за
это на проверке не бьют. Вызовут «слегка» — там другое дело. Филлипинца заказали
с вещами. Трясущимися руками бедный доктор стал собирать баул, будучи, видимо,
уверен, что его снова отведут в какое-то страшное место. Открылись тормоза, и
вертух, с утра недовольный чем-то, просящим тоном сказал другому: «Слушай, отведи
этого мудака, ладно?» — «Куда? К иностранцам?» — «Ну. Думали, якут. Эй, ты, ты
кто там? Ладно, давай выходи, хули встал в дверях». Так мы расстались с мэром
города Багио господином Хуаном Лабо. — «Такая шняга» — заметил кто-то, когда захлопнулись
тормоза. «Такая страна» — говорил знакомый американец, объясняя тем самым российские
странности, но тогда ни он, ни я ещё не знали, что правильнее говорить: такая
шняга.
А время шло, в нашей хате не лечили никого, ребята собрались по преимуществу сыновья
своих родителей, т.е. бабки за них двинули, за что наказание ожидалось минимальное.
Наш болезный и битый съездил на суд — «на меру». Меру ему не изменили. Судья задала
провокационный вопрос: считает ли обвиняемый себя виновным, и парень с горячностью
ответил: «Нет!» Я сутки потратил, чтобы вбить в его башку: о виновности «на мере»
ни слова. Однако парень, как истинный арестант, мне не поверил. А шансы у него
были: самое лёгкое обвинение в хранении незначительного количества наркоты. Но
— хотел бы я видеть того, кто умеет учиться на чужих ошибках. Встречи с адвокатом
стали реже (всё-таки не удобно было напрягать Ирину Николаевну лишними посещениями
тюрьмы, входя в которую, как она призналась позже, адвокат не может быть уверен,
что выйдет из неё); уважаемый следователь пропал прочно; но было ясно одно: я
побеждаю, идя по единственно возможному медленному пути: невидимые лица используют
невидимые связи, а умеренные, но убедительные угрозы Косуле обеспечивают путь
на больницу в матросскую Тишину, куда в одно прекрасное утро меня повезли снова.
Этап на больницу сопровождается упрощённой процедурой сдачи казёнки, прямо тут,
на продоле, отчего чувствуешь неизменное волнение: всему вопреки, а вдруг свобода?
О чём ещё мечтать арестанту. Самая важная забота — убедиться, что едешь на больницу,
а не на общак, поэтому сданная казёнка успокаивает, к тому же вопрос, что говорить
на Матросске, уже не страшит; чувствовать себя в привилегированном положении неистребимо
приятно даже в тюрьме. На первом этаже я оказался в одиночке, но не в стакане,
а с лавочкой. Позже подсадили парня, в боксе стало тесно, но мы, естественно,
закурили, покрыв туманом жёлтую лампочку, грязно-зелёные стены и друг друга. —
«Ты на больницу?» — поинтересовался парень, глядя на полотенце, которым я перетянул
поясницу (пояс отобрали и сказали, что отдадут позже). — «Точно не знаю. Видимо,
да. Если не трудно, помоги затянуть потуже. А ты?» — «Я на волю, срок статьи истёк».
Вот это да! Этот парень сейчас выйдет из тюрьмы и пойдёт сам, куда захочет. Вот
это — да… — «Сам-то откуда?» — «Из спидовой хаты» — тут, по правде сказать, передёрнуло,
и я постарался отодвинуться от соседа. — «То есть, на Бутырке тоже есть спидовые
хаты?» — «Конечно» — парень перечислил, какие. — «Заболел в тюрьме?» — «Нет, на
воле. У нас компания тесная, всегда один баян был». — «На воле сможешь позвонить?»
— «Да, давай телефон». Тут я задумался, а что это я в одиночке вдруг встречаюсь
с тем, кто уходит на волю. — «Нет, — говорю, — не надо ничего».
Этап оказался немногочисленным, поместился в УАЗ, как было однажды. Каждого заковали
в наручники, отчего ожидаемая радость увидеть Москву померкла. Когда ты в наручниках,
очень хочется убивать тех, кто тебе их предназначил, поэтому ни в окно, ни на
мусора с автоматом во время езды смотреть не хотелось. На морозном солнечном дворе
Матросской Тишины самочувствие улучшилось. Наручники сняли и дали возможность
постоять на воздухе, где взгляд, конечно же, стремится в небо, белёсое высокое
пустое московское небо. Сбоку опоры какой-то постройки. Опускаю глаза и сталкиваюсь
взглядом со старым знакомым. Вася! Кот, повидав тысячи арестантов, узнаёт меня
сразу, это очевидно. И поступает чисто по-арестантски: не видит меня в упор и
медленно исчезает за небольшой опорой. Делаю шаг в сторону, так же неторопливо,
как Вася, чтобы не привлечь ничьего внимания и увидеть за колонной кота. Вася,
видя такое дело, так же аккуратно делает шаг назад, и опять его не видно. Знает
серый, что от этого арестанта хорошего ждать нельзя, ещё возьмёт за шкибот и отнесёт
в хату два два восемь. Получается, не освободился Вася, а всего лишь уехал на
зону. Впрочем, за высокими стенами он как дома. Рождённый в тюрьме, как истинный
россиянин, он должен быть патриотом. Вася, Вася… Шняга всё это. Самые большие
патриоты, Вася, ? это государственные ворюги, да и то потому, что красть в других
местах не умеют. Держи хвост трубой, беги за ворота, когда поедет автозэк, тебя
пропустят, и узнаешь другой мир, где живут свободные кошки, где дурманят невиданные
тобой доселе краски и запахи, где тебя ждёт справедливая борьба за жизнь и за
всё, что ты хочешь. Беги, Вася.
Приёмный кабинет преодолевается автоматически. Приёмщица смотрит в историю болезни,
задаёт вопрос, ответа не слушает, и — всё, Павлов, не мешайте, идите на сборку,
сейчас отведут во второе отделение. Тюремная Мекка достигнута опять. С каким спокойным
сердцем шагаешь за вертухаем. Что шагаешь, это, конечно, кажется, на самом деле
плетёшься, и вертухай терпеливо ждёт, когда дошкандыбаешь до очередной двери.
В знакомом поднебесном коридоре останавливаемся не перед той дверью, где я был
раньше. — «Слушай, старшой, давай меня в двадцатую, я недавно оттуда, меня там
ждут». Несмотря на то, что камера для меня определена, старшой самым удивительным
образом соглашается, и мы идём дальше. — «Сюда?» — «Да, в самый раз».
— О-о! Какие люди без охраны! — восклицает Валера О.О.Р.
Удивлённо смотрит Малхаз; Серёга невозмутим, но явно рад.
— А вот и место твоё. Видишь — свободно. Мы его тебе оставили, — серьёзно и с
достоинством говорит Валера. Ну, разве это не кайф, господа? А тут и чайку, и
сигарет хороших. Не грех задымить наши грешные души и, ясное дело, с этапа отдохнуть,
слушая как Валера, будучи одарён музыкально, поёт песни собственного сочинения.
Одна из песен Валеры О.О.Р.
Мы с ним ломали хлеб и чифирили,
Его считали мы за своего,
Но этим летом
Воры к ответу
На суд Прогоном вызвали его.
Но этим летом
Воры к ответу
На суд Прогоном вызвали его.
Я в лёгкие воткнул ему заточку,
Он хрипло закусил её ребром.
И вспомнил я про маму и про дочку,
И пот со лба я вытер рукавом.
Потом пришёл начальничек с проверкой,
Он заявил, что всем теперь п…. ?
Что будет делать он со сводкою и сверкой,
И жмурика девать ему куда.
А я на шконку на прощание прилягу ?
На крытой долго тянутся года.
Такая шняга,
Такая шняга,
Такая это шняга, господа.
Такая шняга,
Такая шняга,
Такая это шняга, господа!
Братва не выдаст? потеряет зубы,
Здоровье потеряет, кто ни есть.
Когда на сборке долго бить нас будут ?
Узнает каждый, что такое честь.
Я, если выживу, скажу как под присягой ?
Уйду в бега, покину родину, когда
Слабинку даст в заборе эта шняга,
Ну, а пока прощайте, господа.
Слабинку даст в заборе эта шняга,
Не поминайте лихом, господа!