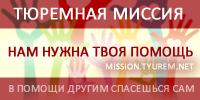«Исполняющий обязанности» смотрящего десятого отряда, Саша по прозвищу Косой о моем существовании знал. Причем давно. Он сидел в 88-й камере киевского СИЗО с одним из моих подельников, Алексеем. В той хате Леша был смотрящим, а Саша только подавал надежды. Как это называется у блатных, стремился. Поэтому определенное уважение, если можно так сказать, он ко мне испытывал. И когда Витя Кикер обсуждал с ним вопрос о моем переводе на 10-й отряд (в таких случаях было принято ставить в курс), Косой не возражал. Он тоже сразу же подумал о том, что от такого богатого «коммерса» как я в общак будут идти немалые взносы.
По этой же причине он решил поселить меня к себе в кубрик. Как он объяснил при первом разговоре, хата, где живет смотрящий и его семейники, считается «общаковой». Не общей, как большая хата на тюрьме, а такой, в которой храниться общак отряда. И жить в ней могут только порядочные и достойные зеки. Поэтому разрешает он мне в ней поселиться в какой-то мере авансом. Надеясь на мои будущие заслуги.
11-й кубрик, о котором идет речь, на самом деле выгодно отличался от многих других на этом же отряде. В нем был сделан неплохой ремонт, поклеены хорошие обои. Стояла оконная рама с двойными стеклами. Кроме тумбочек были еще разные встроенные ящички, антресоль, закрывающийся шкафчик для вещей и одежды при входе. Где-то в полу имелась нихромовая спираль, которую время от времени включали в розетку и нагревали таким образом хату. Поэтому было тепло и сухо. Пахло то ли дезодорантом, то ли туалетной водой.
Жили там до меня трое. Саша Косой, его семейник Сергей по прозвищу Нарик, мужик, ширпотребщик Славик, которого называли Шприцом. Одна нара стояла застеленной и укрытой недешевым пледом.
Косой, как я сказал, был только исполняющим обязанности смотрящего. Сам смотрящий на момент моего переезда в их комнату находился в ПКТ. Или, как тогда говорили, на БУРе (аббревиатура расшифровывается как «барак усиленного режима»). Сидору, а такое было у него «погоняло», дали три месяца из которых он отсидел там чуть больше одного.
Во всех других кубриках отряда было по восемь нар. По четыре двухъярусных. Стояли они вдоль стен, друг напротив друга. В 11-й хате нар было шесть. Правая, ближняя ко входу и левая, стоящая ближе к окну, второго яруса не имели. Ближайшая к окну, без пальмы, принадлежала Сидору. Та что напротив – Косому. У Косого второй ярус был. Именно на него меня и положили.
На одноярусной наре около входа спал Нарик, напротив наверху – Шприц. Последний заслужил право жить в общаковой хате тем, что делал из нихромовой проволоки цепочки. Каждая стоила до десяти долларов. Понятно, что он их не продавал, а сдавал Косому или Нарику. Те в свою очередь через кого-то из администрации реализовывали на свободе. Прибыль шла в общак. Шприц имел чай и сигареты. Иногда ему давали возможность уколоться вместе с блатными.
Как понятно из прозвищ обитателей 11-го кубрика, кололись они все. Не только на свободе. Эти как раз имели такую возможность и в колонии.
Я наркоманом не был. Даже не курил пока еще. Но тем не менее поначалу у нас находились темы для общения и с Косым, и с Нариком, и со Шприцом. Первые два часто интересовались тем, как в Киеве делался бизнес в начале девяностых, говорили об общих знакомых из киевских группировок. Обсуждали мы мое и Косого уголовные дела. Он тоже сидел за убийство, но в компании своих подельников был кем-то вроде Паши у нас. Саше Косому дали восемь лет за то, что он был водителем у пацанов, напавших на инкассаторов. И убивших при этом одного из них. Суд по их делу состоялся еще в начале 95-го года, одного из подельников приговорили к расстрелу и даже потом расстреляли.
Славик Шприц был простой парнишка. Как огромное количество молодежи подсел в свое время на наркотики. За них и попал в тюрьму. Ради интереса и расширения кругозора я мог пообщаться и с ним. Местами даже интересно было слушать его рассказы о жизни львовских наркоманов.
Обитатели общаковой хаты на промку не ходили. Саша, правда, бывал там иногда. Когда положенец лагеря, Матвей с 3-го отряда, собирал там смотрящих для решения каких то важных вопросов «по жизни нашей». А в остальные дни они играли в карты, разводили рамсы, общались с регулярно приходившими к ним мусорами. Иногда ночью появлялся начальник дежурившей смены контролеров, такой здоровый прапорщик по прозвищу Монгол. Косой брал сумку с сигаретами, чаем, продуктами и заряженными шприцами и в сопровождении последнего шел через всю колонию на яму. К Сидору По слухам, такая «свиданка» стоила раз в пять дороже, чем мои три недели на санчасти. Возвращался Саша под утро, минут за сорок до шестичасовой проверки.
Шприц днем крутил свои цепочки, ночью спал. За то, чтобы он занимался ширпотребом, а не тратил время на промзоне, решали Саша с Сергеем.
Мне поначалу на промку ходить пришлось.
При первом же моем разговоре с Косым я дал на общак блок дорогих американских сигарет, банку кофе, чай и каких-то продуктов. Для среднего зека это было немало. Но от меня ожидали денег, которых у меня не было. Поэтому на мой вопрос о том, как мне отпетлять от промки, Саша ответил приблизительно так.
- Пока рано тебе об этом думать. Сходи в цех, с людьми познакомься, посмотри как мужики работают. А через некоторое время обсудим.
10-й отряд, в отличие от 4-го, закреплен был за цехом № 2. По всей колонии считалось, что этот цех – самый мрачный. Когда-то там производились вагонные люки и еще какие-то детали для железнодорожного транспорта. Пространства было много, стояли огромные пресса, штамповочные, сверлильные станки, гильотины для резки металлической проволоки, сварочные аппараты. Но больше половины из больших станков не работали. Они просто стояли огромной массой металла и втягивали в себя ночной холод. Если днем на улице (а на работу я первый раз вышел в конце января) было минус 10, то в цеху сохранялась ночная температура. Минус 20.
То, что моя счастливая лагерная жизнь закончилась и наступили суровые будни я прочувствовал в первый же выход на промзону с 10-го отряда. В тот день я утром сходил на санчасть, пообщался с Витей, побывал на приеме у Николаевича. Последний тоже сказал мне, что все время освобождения от работы мне давать не сможет даже он и рано или поздно в цех идти придется. Чем раньше, тем лучше. Быстрее привыкну. Рома по дружбе подарил мне две овощные сетки, норму на первый рабочий день, я засунул их в карман и, не возвращаясь на отряд, пошел с проходной (вахты) в цех.
На улице было прохладно. Зима того года была достаточно морозной. Одежда, в которой я тогда ходил, привезенная мне мамой и женой, была неплоха. В смысле её качества и стоимости. Я донашивал еще приобретенные мной на свободе брюки от воронинских костюмов, свитера из бутиков и туфли из фирменных магазинов. Фуфайка, конечно, была не от кутюр, но новая и не очень плохая. Однако, для мороза минус двадцать градусов эта одежда явно не подходила. Пока я шел с санчасти, успел основательно замерзнуть. «Ничего, - думаю, - приду, согреюсь».
Когда я вошел в цех, то сразу понял: здесь согреться точно не удастся. Потому что внутри было гораздо холоднее. Как в холодильнике. К этому добавлялись сквозняки, гуляющие по огромному зданию. Хорошо, что меня сразу же вызвали к мастерам для росписи в журналах по технике безопасности и оплате труда. Ознакомили с тем, что я должен был делать и сколько. Я был распределён на участок по плетению овощной сетки. Как и предполагалось.
Еще на этой огромной производственной площади работали «чесальщики» льноволокна. Человек десять. Они занимались тем, что получали сколько-то килограммов отходов льняного производства, сначала кидали их на землю, били металлическими прутьями, потом трусили руками, пытаясь отделить собственно полезное волокно от крупных остатков стеблей льна.
Точнее сказать, в цеху были видны только эти «трусильщики» пакли. Они постоянно находились в движении и холодно им не было. Ну, еще пару человек ходили от одной стены цеха до другой. «Тусовались».
«А где же думаю, все?». По идее, в цеху должно было работать человек шестьсот. Ну, с учетом того, что многие на работу не ходили, хотя числились на ней, человек четыреста.
Как и любой большой заводской цех, этот представлял собой громадный, построенный из кирпича, ангар. С огромными воротами, правыми и левыми с одного конца цеха и встроенным трехэтажным зданием с другого. В этом здании с железной лестницей на второй и третий этажи, находились кабинеты начальника цеха, мастеров и слесарей, обслуживающих немногие оставшиеся исправные станки. На третьем этаже был участок по изготовлению гипсовых форм для производства керамических изделий, на первом – «шурша» приемщика пакли, помещение слесаря-инструментальщика и две большие раздевалки. Одна для сварщиков, вторая для остальных работающих в цеху зеков.
Именно в этих раздевалках и находилась большая часть народа. Та, что была предназначена для сварщиков использовалась еще и как место, где коротали рабочие дни вышедшие по какой-то причине на промку приблатненные зеки и некоторые, считающие себя слишком «порядочными», чтобы сидеть в одной «шурше» со всеми. Мужиками, плетущими сетку, «чертями» и «крысами».
Спустившись со второго этажа, я зашел поначалу в первую раздевалку. Увидев не очень то доброжелательные физиономии блатных и им подобных и поняв, что моих знакомых среди них нет, я извинился и вышел на мороз.
Вторая, мужицкая раздевалка, была тут же рядом. Я открыл её дверь и… чуть не упал от ударившего мне в лицо тяжелого воздуха, состоящего из сигаретного дыма, запаха пота, старой грязной одежды, металлических инструментов, пакли и еще стольких ингредиентов, что все вычислить невозможно. Воздух этот был непрозрачный. Точнее, не сразу прозрачный. Чтобы рассмотреть хоть что-нибудь в этом тумане требовалось немного постоять и привыкнуть.
Дверь держать открытой долго было нельзя. В раздевалке было сравнительно тепло, а в цеху очень холодно. О чем мне сразу же и сказали. Поначалу я хотел куда-нибудь присесть, но наконец-то всмотревшись в эту обстановку понял, что мест для сидения нет.
Площадь этой «шурши» составляла порядка пятидесяти квадратных метров и на всем пространстве стояли лавочки. Стены по периметру были завешаны одеждой. Хотя лавок было много, на каждой впритирку сидели зеки и, прицепив капроновую нитку к крючку соседней лавки, плели сетки. Челноки ходили вверх-вниз, стоял какой-то вязкий шорох, слышались тихие разговоры. Иногда смех. Виденные мною во время моего похода на 15-й отряд с карантина зеки, напомнившие пауков, вспомнились мне также, как могла бы вспомниться героине фильма про «Чужих» первая встреча с монстром в момент попадания к ним на планету. Где монстры везде. А людей нет.
Пока я вглядывался в поразившую меня картину, несколько человек выходили, вероятно в туалет. Потом возвращались. В этой раздевалке всем было все равно. Кто ты, что и почему просто стоишь на входе. Каждого интересовало только его занятие и, может быть, сидящий рядом собеседник.
Минут за пять я немного согрелся. От воздушной смеси в этом помещении у меня начала побаливать голова. Я развернулся и вышел обратно в цех.
Смена прошла в хождении от одного конца цеха до другого, с небольшими по времени заходами в раздевалку. Постоять пять минут, согреться, выйти обратно. Небольшое разнообразие внес вывод с цеха на обед.
Столовая находилась в том же производственном двухэтажном здании, что и швейка. Обедали по цехам. Дневальные приходили с отрядов, расставляли на столы необходимое количество бачков с первым и вторым, клали на столы нарезанные по четыре пайки буханки хлеба. Затем в цеху звали бригады своих отрядов и сопровождали в столовую. После обеда «шнырь» шел обратно на жилзону, а остальные возвращались в цех.
Я съел свою пайку хлеба, на чем мой обед закончился. Превратно понимаемые понятия не позволяли тогда обедать из общего котла и пользоваться общей посудой. Я ведь жил в «общаковой хате»! В одной со смотрящим отряда! А с попавшейся тарелки мог когда-то есть и «крысак», и «черт», и даже «петух». Ты же не приходил на обед со своей «шлемкой». Поэтому во избежание возможного «контакта» приходилось голодать. Но зато пока мужики с нашего отряда обедали, я погрелся, стоя на улице. Днем мороз упал где-то до трёх градусов.
В цеху было по прежнему холодно, но я уже немного привык и чувствовал себя превосходно. «Уж мне ли, - думал я, - бояться холода. Я ведь вырос в на Крайнем Севере. А по сравнению с мурманскими морозами, здешние - так, приятная прохлада». Надо было только ходить и не останавливаться. Потому что в случае остановки подошва моментально вбирала в себя холод от бетонного пола и ноги превращались в замерзшие ходули. Мои туфли, а я как-то не подумал о необходимости найти себе зимние сапоги, от такого холода совершенно не предохраняли.
Время до съема с работы тянулось бесконечно, но прошло довольно быстро. Такой вот парадокс. Пока ты ходишь взад-вперёд, думаешь обо всем, о чем возможно, вспоминаешь свою жизнь поминутно, время тянется достаточно медленно. Смотришь на часы. Столько-то. Потом идешь до одной стены, разворачиваешься, идешь (метров тридцать) до другой, опять разворачиваешься. Туда. Обратно. Опять туда. Опять обратно. Сотню раз. Думаешь. Вспоминаешь. Когда кажется, что должно пройти как минимум час с того момента, как последний раз смотрел на часы, смотришь опять. Да-а-а! Прошло двадцать минут всего!
Но когда смена заканчивается и ты приходишь на барак, вспомнить особо нечего. И поэтому кажется, что время пролетело быстро. Вроде бы только на работу шел.
У меня, однако, от первого рабочего во втором цеху дня осталось еще одно воспоминание. Довольно веселое. Как всегда связанное с моим везением, что ли. Потому что произошедший случай мог закончиться настолько плачевно, что и последствия для меня предвидеть было бы страшно.
После обеда я захотел в туалет. В самом пространстве цеха, как я описывал, практически никого не было. Пара человек ходило, но были они далеко и на своей волне, поэтому отвлекать их не хотелось. Еще несколько не могли отвлечься от работы по вытряхиванию пакли. Спросить, где в цеху параша было не у кого. «Ничего, - думаю. - Сам найду».
Недалеко от раздевалки я нашел прямоугольное помещение. С неплотно закрывающейся металлической дверью. В котором вдоль одной стены проходила труба, из неё торчали краны без вентилей. Из кранов текла вода. Снизу был слив. Ну точно такой, какие бывают в вокзальных мужских туалетах. Вода стекала по этому сливу и уходила через отверстие у противоположной от входа стены. Высота этой канавки как раз была чуть выше колен.
«Вот, нашел», - подумал я и встав перед ней начал расстегивать ширинку. Случайно вошедший именно в этот момент сюда зек дико округлил глаза и заикающимся голосом проговорил:
- Т-ты ч-что д-делаешь?
- Поссать думаю, - ответил я. - А что?
- Так это не туалет! -прокричал он.
Слава Богу, что ширинку я расстегнуть так и не успел. Вошедший внимательно посмотрел на меня и по моему достаточно приличному виду понял, что перед ним этапник. Который первый раз в цеху и действительно не знает, где туалет.
Если бы я таки справил бы тогда свою малую нужду, быть бы до конца оставшегося срока «чертом». Именно так могли расценить такой поступок (Ничего себе! Нассать мужикам в умывальник!). В самом-самом лучшем случае мне все-таки удалось бы оправдаться незнанием и отсутствием людей, у кого спросить. Но тогда бы пришлось за свой счет строить в цеху новый.
Туалет оказался в помещении рядом. Две «дючки» без всякого слива и довольно таки грязные на вид. Умывальник в цеху мог показаться туалетом только тому, кто не видел настоящий. Интересно то, что об этом случае я не рискнул рассказать никому. Да и мужик тот тоже оказался не сплетником.
Дни на промзоне, во 2-м цеху, были довольно однообразны. Я познакомился с несколькими пацанами с других отрядов. Ходить взад-вперед вдвоем было гораздо веселее. Темы для разговоров находились всегда. А под общение рабочие часы пролетали довольно быстро. Сигареты для приобретения дневной нормы сеток, по шесть штук, у меня пока были. Чай, кофе тоже имелись.
Один из моих новых знакомых порекомендовал меня как интересного человека одному из козлов цеха, звали которого Богдан. Это был мужик лет сорока с небольшим, бывший когда-то начальником отдела физкультуры и спорта в администрации одного из районных центров Ровенской области. Сидел он за то, что во время одного из регулярных посещений сауны со своим другом, врачом местной больницы, они немного перебрали алкоголя и о чем то поспорили. Спор перерос в обмен дружескими подзатыльниками и с одним из них Бодя немного переборщил. Он когда-то тоже был боксером. Поэтому в отделе физкультуры и работал.
Судили его за убийство, но дали «ниже низшего», кажется пять лет.
Бодины обязанности состояли в том, что в начале смены он по весу выдавал сырье чесальщикам, а в конце принимал очищенную паклю. Он считался у них бригадиром. Знакомство с ним было очень полезно в том плане, что его должность предполагала наличие своего помещения (шурши), где пакля хранилась, стояли весы и другой необходимый инструмент. У него было тепло, имелись кружки для заварки и питья чая, кипятильник и электричество. Для того, чтобы Богдан с радостью принимал у себя меня и своего земляка Руслана, который нас и познакомил, требовалась самая малость. Наличие того, что можно было заварить и того, что можно было покурить. Бывало, что мы просиживали у него всю смену, пока он не был занят выдачей и приемкой.
Любил посидеть и поговорить с нами и молодой парнишка из вольнонаемных (вольнячих) мастеров. Из отдела техконтроля, контролер качества пакли. Этого звали Эдик и он только недавно отслужил в армии. На Черном море в бригаде морской пехоты. Учитывая, что я имел к флоту родственное отношение и мог рассказать много интересного о том, как служилось людям на море Баренцевом, общаться нам было интересно. Правда, Эдик не собирался всю свою жизнь быть ОТэКовцем. Он хотел делать карьеру в администрации учреждения и место, которое он занимал в момент нашего знакомства было только первым шагом в ней.
Иногда я со своими «коллегами» ходил после обеда в соседний, 1-й цех. Там было хорошо в особо морозные дни. Дело в том, что в нем было производство керамической плитки, цветочных вазонов и других изделий. Работали две электрических печи для обжига глины, которые неплохо прогревали цех и в нем было тепло. Сразу после обеда, забрав с собой пайку хлеба, я шел туда, устраивался рядом с печью и стоял грелся. А хлеб разрезался на две половинки, ложился на металлическую решетку с одного из боков печи, под которой находились горячие гильзы электродов, таким образом немного поджаривался, покрывался корочкой и становился особенно вкусным.
Для того, чтобы так подогреть хлеб, стояла целая очередь, потому что места на решетке хватало паек на пять. Но торопиться все равно было некуда. В свой цех необходимо было вернуться за час до съема, чтобы сдать свои шесть купленных овощных сеток. Поэтому пока очередь рассасывалась, пока делались такие своеобразные тосты, пока они неторопливо со смаком съедались, пока обсуждались разнообразные темы, время проходило и это было хорошо.
Интересно, что тогда редко кто из контролеров или вольнонаемных мастеров смотрел на то, с какого цеха тот или иной осужденный. В цехах проверок не было и выйдя на промку можно было отправиться по ней куда угодно. Посетить кроме первого цеха третий. Сходить на инструментальный участок или в гараж, в гости к бригаде ширпотребщиков, комнаты которых находились в том же здании, что и управление 2-го цеха, только вход был не изнутри, а с обратной стороны.
Мало-помалу я познакомился с множеством людей, работающими на разных участках, в разных местах и мог появляться в своем цеху только к обеду и к приемке сеток.
Мне пока особенно скучно не было и найти себе какую-то работу я не стремился. Да и «понятия», опять же, не позволяли. Я должен был норму покупать. По этой причине я совершил еще одну глупость, осознал которую только через девять лет.
Начальником 2-го цеха был старший лейтенант, офицер с немецкой фамилией. Звали его Владимир Николаевич. Как правило тогда начальники цехов не особенно вникали, кто работает у них на общих работах. Если человек не создавал особых проблем, фамилия его не звучала на планерках или в разговорах между администрацией и блатными, то он мог год- другой числиться в каком-то цеху, а с его начальником так и не познакомиться. Но в отношении меня Николаевич что-то от кого-то узнал. Может быть кто-то из моих хороших знакомых на тот момент фельдшеров создал мне рекламу. А может и Саша Косой похвастался такой «коровой», какой они меня тогда все представляли, перед своими знакомыми прапорами и офицерами, а те уже передали дальше и как-то раз начальник цеха меня вызвал к себе.
Прием мне понравился. Шнырь, а дневальный цеха, как и отряда, обслуживал не только блатных, но и начальство, принес кофе, Николаевич предложил мне сесть и принялся расспрашивать, правду ли ему про меня нарассказывали. А слухи тогда ходили занимательные. Говорили, что я нанял киллеров за какие-то колоссальные деньги, те выполнили свою работу, но кого-то из них кто-то сдал, потом вышли на меня, посадили и так далее. Рассказывали, что у меня свой банк, автосалоны, магазины и много другого. И большая часть этого осталась несмотря на арест.
Я постарался слухи эти развеять. Как мог. Разговаривали мы долго. Я пообещал на следующий день принести свой приговор и статью в «Киевских ведомостях», написанную после суда, сохранившуюся у меня к тому времени. Рассказал о жене, о состоявшемся незадолго до того свидании, о том, что моя материальная обеспеченность очень преувеличена. Николаевич задал мне вопрос, как я собираюсь жить дальше. Он хотел услышать ответ, к кому я все-таки ближе, к мужикам-работягам или блатным. Но однозначно ответить я не смог. Максимум, что было мной сказано, это Витина трактовка (жить не мешая и уделяя, а люди скажут!).
Мой собеседник улыбнулся. Он то понимал в жизни зеков больше моего и видел, что с блатными у меня точно ничего общего. Но и на работягу я похож не был. Поэтому самый правильный для меня вариант был устроиться на какую-нибудь должность, получать ставку и зарабатывать характеристику. Жить при этом спокойной и сравнительно обеспеченной материально, насколько в зоне это возможно, жизнью. Однако это означало стать козлом. А три года, проведенных мной в СИЗО говорили о том, что вряд ли я на это соглашусь. Да и тот факт, что я был поселен в хату к смотрящему отряда тоже исключал на тот момент мысли о козлячьей карьере.
Прощаясь, Николаевич протянул мне руку для рукопожатия. По понятиям жать руки мусорам было западло. Не то, чтобы это был контакт, как в случае с обиженным, но уважения у братвы пожавшему точно было уже потом не видать. Однако я принял этот жест доверия и в какой-то мере поддержки. Хотя сердце в тот момент у меня сжалось. Рукопожатие было крепким, чисто мужским.
Через годы, когда я регулярно, раз в полгода ходил на комиссии по поводу условно-досрочного освобождения, этот офицер, к тому моменту уже подполковник, был один из немногих, кто в моей характеристике неизменно писал: «Заслуживает УДО».
А тогда, на следующий день, после прочтения приговора и газеты, он предложил мне у себя в цеху нормальную работу. Формовщиком. Изготавливать из гипса формы для керамики. Искренне хотел облегчить мне жизнь. Я посоветовался с человеком, мнение которого для меня в тот момент было самым авторитетным. Витей Кикером. Тот сказал, что работа эта предполагает ставку, значит является козлячьей и соглашаться нельзя. Пришлось отказаться.
Николаевич отказ понял, тем более что я рассказал, кто посоветовал мне принять решение. О том, что я являюсь фактически жертвой искаженных взглядов на жизнь и не идеального окружения, он говорить мне не стал. Чтобы не расстраивать. Знал, что когда-нибудь я сам все пойму.
Так и продолжались мои выходы на промзону без особых изменений.
Когда немного потеплело, я по утрам, часов до десяти, гулял по улице вдоль стены цеха (что было нельзя, так как находиться надо было в цеху но пока никто не обращал внимания на меня, я не обращал внимания на запрет). Потом отправлялся к еще одному новому знакомому, уже в годах мужику, который был дневальным бригады ширпотребщиков. Той самой, с обратной стороны 2-го цеха. Он предоставлял мне небольшое полуподвальное помещение, где у него стояла лежанка и я там до обеда спал. После обеда шел или к себе в цех, коротать время за чаем и разговорами в Бодиной шурше, или в первый цех делать гренки и общаться с кем придется. Из таких же, скучающих на промке, зеков.
Разнообразие в жизнь внесли события, затронувшие всех на лагере и запомнившиеся любому, кто их застал.
Случился «тарелочный бунт».
Блатные колонии не представляли из себя какую-то единую команду. Среди них были такие, кто друг друга мягко говоря не очень любил. А некоторые вообще ненавидели. Не берусь судить с чем это было связано, с присущими этой масти чертами характеров или с материальными интересами, но менее авторитетные постоянно пытались поставить под сомнение более авторитетных. Для этого необходимы были основания. Их постоянно находили. То распределением общака интересовались друг у друга, то смотрящий одного отряда заявлял, что на другом вопросы неправильно решаются. Или мужиков необоснованно ущемляют. В общем, обычное дело. Власть и оппозиция.
Любая оппозиция хочет стать властью. Верхушка оппозиции лагерных блатных состояла из смотрящего и его семьи одного из отрядов трехэтажки 13– 15. И кому то из них в какой-то момент пришла в голову мысль, что именно можно предъявить положенцу лагеря. Такое, что если бы большая часть блатных и мужиков признало эту предъяву обоснованной, то положенца необходимо было бы менять. И не просто менять, а наказывать за плохое исполнение обязанностей.
Суть её состояла в следующем. Как я писал, многие в общей столовой есть избегали. Якобы нельзя было предвидеть, попадется ли тебе законтаченная тарелка. Та, из которой когда-то ел петух. Так вот Бес (а такое было «погоняло» смотрящего, о котором идет речь), проведя агитационную работу, в один назначенный день организовал отказ почти вообще всех мужиков от выхода в столовую. И от еды там, само собой тоже. Все в одночасье посчитали для себя неприемлемым есть из посуды с неопределённой биографией. Устроил он все не без помощи блатных разных отрядов, которые хотели стать смотрящими, но пока еще не были.
Это было, конечно, ЧП. Уже в первый день к вечеру руководство администрации в лице первого заместителя начальника колонии, начальника режимной части и заместителя по интендантскому обеспечению посетили все отряды, где собирали осужденных и уговаривали от голодовки отказаться. На следующий день в каждом цеху по очереди выступили первый зам и лично хозяин. Последний в числе прочего говорил, что если на следующий день зеки в столовую не пойдут, то через день ему придется вызвать спецназ, который заставит всех и завтракать, и обедать, и ужинать. Ситуация грозила завершиться плачевно.
Тот, кто заварил всю эту кашу, конечно же предполагал такое развитие событий. Спецназ «поработал» бы с теми смотрящими и блатными, которые были «при власти». Кого-то закрыли бы в ПКТ, после чего свезли бы на крытую, кого-то отправили бы в больницу, и появлялась реальная возможность из оппозиции превратиться во власть. Поэтому даже и требования к администрации не были четко сформулированы. Не было понятно, чего именно добиваются те, кто не ест. Чтобы поменяли все тарелки вообще или как-то отдельно хранили, мыли и вообще использовали те, из которых едят обиженные? И кто должен этот процесс контролировать?
Само собой, что положенец и те лагерные блатные, которых положение устраивало, попытались взять ситуацию под контроль. И благодаря качествам Матвея это получилось.
Об этом человеке я знаю мало. Только то, что он к тому моменту досиживал 15-ти летний срок, который начинался еще в советских лагерях где-то на севере. В середине 80-х в Полицкой колонии бывший до того режим, общий, поменяли на усиленный. И привезли большое количество зеков из разных мест существовавшего еще тогда Советского Союза. Во время горбачевской перестройки решили немного облегчить осужденным, а точнее их родным, жизнь. Тех, кто был осужден на Украине, туда и вернули. Не знаю, делалось это по желанию каждого перемещаемого зека или без него, но тогда многие приехали на 76-ю. К моменту описываемых событий таких бродяг, прошедших северные лагеря оставалось мало. Матвей был одним из них.
По цехам они ходили вместе с хозяином. Но тот, выступив перед зеками уходил в кабинет начальника цеха или шел в цех следующий, а положенец оставался и тоже говорил с мужиками. Основной смысл его слов был в том, что раз уж такой вопрос возник, то совершенно необязательно было подбивать мужиков на голодовку. Имело смысл просто довести его до авторитетов колонии, до самого Матвея в частности, и он без лишнего кипиша решил бы эту проблему с администрацией. Пока предлагалось такое половинчатое временное решение. Мужики ходят в столовою, если кто не хочет, может не есть, кто хочет, приносит свою тарелку и ест с неё. Это, правда был не совсем приемлемый вариант, так как до этого как раз обиженные и ходили в столовою со своей посудой. Чтобы не контачить мужицкую. Еще говорили при случаи, если кто-то допускал какую-то оплошность: «Смотри, а то будешь со своей шлемкой в столовую ходить». Но для спокойствия и аргумента такой вариант был вполне терпим. А за ближайшие дни или администрация, или братва, или и те и другие совместно найдут средства на новую посуду, что решит вопрос окончательно.
На следующий день мужики в столовую пошли. Тем более, что и есть уже многие хотели. Редко у кого передаваемые родственниками продукты были постоянно.
Правда, имели место частные обсуждения. Тема для разговора была совсем неплоха. Особенно интересовал всех такой момент. Как же быть. Хорошо, поменяют тарелки на новые, но ведь сколько времени и сколько зеков до этого ели из старых, потенциально контаченных. И что, теперь все под сомнением? Общее мнение свелось в итоге к тому, что для мужиков это особой в жизни проблемы вряд ли составит. Мало кому придет в голову предъявлять работяге то, что он когда-то ел из общей посуды. А приблатненные, стремящиеся и остальные зеки, не оставлявшие надежду освободиться в авторитете у братвы если ходили в столовую, то сами виноваты. Блатной о своей кишке вообще думать не должен. Только об общем.
Через пару дней на столах стояли новые, пластмассовые тарелки. Напоминающие по виду и размеру обычные суповые, имеющиеся в каждом доме на свободе. По сравнению с алюминиевыми шлемками, которыми пользовались в системе исполнения наказания с незапамятных времен, это был прогресс. И отличить посуду петуха от посуды мужика стало совсем просто. Обиженным оставили старую. Они ей продолжали пользоваться даже тогда, когда мой срок подходил к концу.
Почти для всех мужиков «бунт» закончился. Но для блатных он не мог не иметь продолжения. Где-то в течение следующей недели на каждом отряде проходили сходняки, на которых братва обсуждала, как оценить поступок Беса и его близких. Были мнения разные. Одни считали, что ничего сверхъестественного не произошло, ну поднял человек вопрос, волнующий всех, привлек внимание, что в итоге привело к его решению. Это даже плюс ему. Другие же считали, а это были в основном действующие смотрящие отрядов и их семейники, при чем их было большинство, что поступок можно охарактеризовать как блядский. Из-за того, что подготовка к фактической голодовке была проведена в тайне, что положенец не был поставлен в курс и что события могли иметь пагубные для братвы последствия.
Последняя точка зрения взяла верх, что понятно. Конкурентов надо было давить в зародыше. А повода лучше и вообразить то было нельзя. В конце концов Беса и его семейников пригласили на очередной базар, но базарить не стали, а избили. Как это называется у братвы, спросили за блядский поступок. Так же поступили на каждом отряде с теми блатными, кто в каких-то разговорах имел неосторожность его поддерживать.
Бес, пролежав на санчасти около месяца, был отправлен на крытую, многие из участников событий с его стороны получили от администрации по нескольку месяцев БУРа. Некоторые из определённых в бляди остались на отрядах где и были, но всех привилегий были лишены. Как и части здоровья.
Пострадали даже некоторые мужики. По неосторожности. Вспоминается такой пример. В 8-й хате, через две от нашей, общаковой, тоже жили уважаемые зеки. Кстати, именно в ней числился и Кикер. Но тот, как чувствуя приближение событий, в которых необходимо было принять чью-то сторону, а последствия этого просчитать было тяжело, так и не выписался к тому времени с санчасти. А на больничке лежат больные, которые в сходках и разных базарах могут участие и не принимать.
Один из жильцов того кубрика, Юра, прозвище которого я не помню, был знаком с Бесом или по тюрьме, или еще по свободе, был с ним в хороших отношениях и не мог не принять его сторону. Именно он получил на 10-м отряде больше остальных. На следующее утро, после того как с него спросили, он с огромным трудом попытался встать, чтобы сходить в туалет. Напомню, что удобства были на улице. Для этого надо было спуститься с третьего этажа, а с отбитыми почками и двумя поломанными ребрами это сделать тяжело. Одеваясь, он никак не мог дотянуться до своих носков, висящих на стоящей рядом с нарой табуретке.
Его сосед по комнате, мужик из порядочных, работавший во втором цеху сварщиком, чисто из человеческих побуждений, подал Юре его носки. Еще один их сосед, нара которого была над той, на которой спал сварщик, этот момент запомнил и рассказал о нем Косому. Вечером, после промки, излишне милосердного зека пригласили в шуршу, где сообщили ему, что если не в падло брать блядские носки, то не должно быть в падло убирать отряд и стоять на шарах. Короче, определили его в черти. А его сосед переехал с «пальмы» на нижнюю нару, к чему и стремился.
Где-то в месяце марте или апреле у меня представилась возможность на работу не ходить. И дал мне её не кто иной, как отрядник.
Начальника 10-го отряда звали как генсека Хрущева, только наоборот. Если разоблачитель культа личности был Никита Сергеевич, этот был Сергей Никитович. Мыкытовыч, якщо вымовляты украинською мовою. Они были похожи внешне и, предполагаю, что у исторической личности и характер был похож на характер моего отрядника. Судя по кукурузной эпопее и случаю в ООН с ботинком и трибуной.
На отряде Мыкытовыч появлялся не каждый день. Я так понимаю, что выход на работу тогда не особенно контролировался не только у осужденных, но и у администрации тоже. Бывало, что его не было на отряде неделю. Приходящие дежурные контролеры рассказывали, что он или ушел в запой со своим кентом, начальником 7-го отряда, или на охоту с рыбалкой уехал. Понятно, зеки и без него проживут. Но когда он появлялся, это означало, что бухать уже не на что.
В кубрик к Косому он не заходил сразу же, как подымался на отряд. Это и понятно, его доверенным лицом был завхоз. Но шары, само собой, докладывали, что нарисовался отрядник и Косому надо доставать из нычки пару долларов. Точнее гривен (я уже писал об этом). Только попив приготовленный козлом чай, узнав о произошедших на вверенном ему отряде за его отсутствие событиях, Мыкытовыч шел в 11-ю хату. Там чай-кофе он не пил, хоть и предлагали регулярно, а вместо этого уединялся со смотрящим. Ненадолго.
Предполагаю, что разговор их обычно состоял из рассказа о том, сколько отрядник выпил за последнюю неделю, сколько рыбы поймал и уток настрелял. Иногда рассказывал о событиях в поселке, если происходило что-то, что могло вызвать у Косого интерес. Например, если кто-то из работников администрации набил морду другому такому же, или если кто-то напился и провалялся в кустах до утра, пока жена не обнаружила. О чем они говорили я мог делать выводы из того, что Саня потом всегда пересказывал нам запомнившиеся и особо смешные моменты.
Потом Мыкытовыч от смотрящего выходил и совершал обход по другим комнатам. Якобы для того, чтобы проверить порядок, соблюдение режима содержания и отсутствие запрещенных предметов. Но в действительности он под предлогом досмотра проверял содержимое тумбочек у тех зеков, которые были материально обеспечены чуть выше среднего. Найденные хорошие сигареты он забирал. Рассказывали, что у кого-то он унес из комнаты новые носки, у кого-то пару кубиков бульона. Действительно, зачем покупать, если можно взять у зека.
То, что они называли его крысой, некоторые даже в глаза, Мыкытовыча не смущало. На это он отвечал: «Да мне по х*й. Я и так мусор. Не фиг оставлять!». Вероятно, дополнительного дохода, который он получал от совместного бизнеса по реализации изготовляемого у него на отряде ширпотреба и получаемого регулярно от смотрящего и зеков, плативших за невыход на работу, ему не хватало.
Как то этот отрядник дежурил и стоял контролировал съем с работы. Как раз из проходной выходила наша бригада. Ничуть не стесняясь шедших рядом зеков, он окликнул меня и сказал:
- Шемарулин, вижу туфли у тебя неплохие.
Я как раз в тот день первый раз одел одну из имевшихся у меня пар обуви. На более тонкой подошве, так как стояла уже теплая весенняя погода.
- Да, Никитович, - ответил я и сказал название бутика, в которых приобрел их в свое время.
- А ты знаешь, что осужденный, у которого нет обуви, на работу не ходит?
Я как бы слышал об этом. Действительно, если у зека не было сапог, туфлей или ботинок, то пока администрация не предоставит ему рабочую обувь, он мог на промку не выходить. В тапочках на производство нельзя, нарушение режима. А так как у колонии не всегда хватало средств на ботинки для зеков и выдавали их не сразу, то некоторые под эту волну не ходили на промку по полгода. Мне такой вариант в голову не приходил. У меня то обувь была.
Но намек я понял. Придя на отряд я снял свои модные итальянские туфли, положил их в целлофановый пакет и стал ждать, когда придет Мыкытовыч. Он не замедлил появиться и даже не стал вызывать меня к себе в кабинет. К хате подошел завхоз.
- Там Мыкытовыч пришел, спрашивает, что там?
Я все-таки решил вручить эту взятку лично и пошел к кабинету начальника отряда. Сидел он, правда, в шурше завхоза. Я зашел, закрыл за собой дверь, и положил на стол пакет с туфлями.
Молодец! – сказал отрядник, - Приятно иметь дело с понимающим человеком. Ну что, можешь идти. Сиди дома, пока не скажу. Только заяву на обувь не забудь написать.
Конечно, эта пара обуви у меня была не последняя. У меня имелись неплохие кроссовки и еще какие-то туфли. А не глотать пыль от пакли в цеху и иметь свободное время для занятий спортом и чтения дорогого стоило.
Косой не особо возражал против того, что я решил вопрос с выходом на работу таким образом. Он то на мои туфли не заглядывался. Но не смог удержаться и рассказал две истории на эту тему.
Одна из них была про то, как мой друг Витя Кикер имел дело с Мыкытовычем по этому же поводу и что из этого вышло.
Витя платил за невыход на промку 10 долларов в месяц. Напрямую отрядному (многие решали этот вопрос через козла, а посредники всегда требуют лишних расходов). Но с самого начала Мыкытовыч поступил в своем стиле. Стиле мусора. Он взял у Витька деньги за полгода вперед, а тогда для тех краев это была очень немалая сумма. Гораздо больше официальной зарплаты начальника отряда, которую к тому же платили нерегулярно.
Витя недели две наслаждался тишиной на отряде, после чего как-то пришел Мыкытовыч и делая вид, что никаких финансово-экономических отношений у них не было, спросил:- «Почему не на работе?».
Витек, как говорил Косой, даже не нашелся сразу, что и сказать. Отрядник ушел. Кикер подумал, что это шутка была. Но на следующий день шутка продолжилась. Намного смешнее. Мыкытовыч, придя после вывода на работу отряда и убедившись в том, что Вити среди всех не было, опять появился у него в хате. Только на этот раз сказал просто: «Собирайся, в ШИЗО пойдем!»
Это был шок. Оказалось, что он попросил цеховое начальство оформить на Кикера рапорта за каждый день невыхода на работу, а на основании их подготовил постановлении о взыскании в виде 15-ти суток штрафного изолятора.
Самому ему в голову пришла идея такого, прямо скажем кидка, или кто-то заказал из «доброжелателей», неизвестно. Но факт остался фактом. Кикер оказался на яме.
За дополнительную плату он смог передать оттуда пацанам из своей «киевской группировки» номер телефона, куда позвонить, и текст, который произнести. Мобильных телефонов тогда еще не было. Кеша договорился с кем-то из фельдшеров. Тот по телефону, который стоял на санчасти попросил телефонистку набрать киевский номер и соединить. Дал трубку.
Разговаривал Кеша с кем-то из Витиной бригады. Не прошло и двое суток, как из Киева приехало две машины. Мерседес и джип «чероки». Сидело в них человек восемь и вид у этих парней был очень спортивный. Пока кто-то из них подписывал заявление на свидание с Витей, другие аккуратно выяснили, кто на 10-м отрядный. Как на грех, Мыкытовыч в тот день в зоне не был, а собирался на очередную рыбалку. Через некоторое время два упомянутых автомобиля остановились у его дома.
Разговор состоялся вежливый. Парни из Киева намекнули, что так не делается и поинтересовались, все ли хорошо со здоровьем работника системы исполнения наказаний и застрахован ли его дом от пожара. И еще сказали, что могут приезжать и беспокоиться об этом регулярно.
Некоторое время после этого визита Мыкытовыч жил в зоне. Если раньше он мог неделю не появляться на отряде, то сейчас он просидел в своем кабинете 12 дней. Ровно столько, сколько времени еще находился в ШИЗО Кикер. Встречал из изолятора его лично. Просил прошения за такой прискорбный случай и клялся всем, что мог только придумать, что Витя решил свой вопрос с выходом на работу до тех пор, пока он в колонии работает. И два месяца бесплатно, за моральный ущерб.
Другая история касалась еще одного материально обеспеченного зека с нашего отряда, который отбывал наказание за хищения в особо крупных размерах. Звали его Коля. Суть его уголовного дела была в том, что он со своими партнерами набирал под реализацию товар по агропромышленным предприятиям, а реализовав, деньги не возвращал. Оформлялось все на несуществующие фирмы и поддельные паспорта. Пока отдел по борьбе с экономическими преступлениями смог на них выйти и что-то доказать, Коля с друзьями провернули несколько таких операций. Прибыль от каждой была немалой. Её они вложили в какое-то реальное предприятие, которое в свою очередь стало давать доход постоянно.
И когда милиция на них все-таки вышла, сел один Коля, а остальные остались развивать бизнес. Они его не забывали и у него все было хорошо и стабильно. Само собой, что он тоже мог себе позволить договориться с начальником отряда за 10 долларов в месяц.
Произошло, правда, почти тоже, что и с Витей Кикером. Коля, правда, не дал Мыкытовычу денег за полгода вперед. Только 30 долларов. И когда через две недели прозвучал традиционный вопрос «почему не на работе», Коля не расценил это как шутку. На следующий день он пошел на санчасть. С шефом отношения у него тоже были хорошие, средства позволяли. На отряд он тогда не вернулся. Пришел на 10-й отряд один из шнырей, забрал его вещи на больничку, где Коля оставался следующие три месяца.
Сергей Никитович не выдержал. В конце концов он навестил «больного».
«Ладно, - говорит, - хватит тут валяться! Возвращайся на отряд, на работу не ходи! Все будет нормально!».
Это было понятно с точки зрения экономической целесообразности. Десять долларов в месяц уходили на санчасть, а не пополняли бюджет Мыкытовыча. Что было неправильно.
Рассказанные Косым истории немного сбили мое воодушевление от легко решенного вопроса. Но по крайней мере я знал, чего можно ждать в ближайшие две недели. Однако мне повезло и в этом моменте. Со мной отрядник не стал экспериментировать. Может потому, что сразу предполагал повторение одного из двух уже имевших место вариантов. Ведь я был близок к Кикеру, да и на санчасти успел побывать и со всеми познакомиться, о чем он прекрасно знал.
Насладиться спокойной жизнью на отряде, не выходя на работу и занимаясь чем-то полезным и интересным мне, однако, долго не пришлось. Вскоре у меня начались проблемы, которых я не мог предвидеть, но фактически нажил себе сам. Избрав такой образ жизни. Без перспектив стать блатным, но живя их жизнью, в их хате и постоянно общаясь в основном с ними.
Началось все с того, что где-то через месяц после меня приехал в колонию мой знакомый. Почти друг. Паша.
Познакомились мы с ним еще в 148-й камере Лукьяновки, куда он заехал получив 8 лет за разбой и вымогательство. Первое время Паша был в полнейшей прострации. Как и многие люди, не ожидавшие никогда такого поворота судьбы. Два дня лежал на наре и смотрел в потолок. Потом немного пришел в себя и, хотя еще не стал особо разговорчивым, начал обращать внимание на окружающую обстановку и людей. Увидел меня.
Лицо мое показалось ему знакомым. Разговорились. Оказалось, что жизнь нас соприкасала уже два раза, но лично до этого момента не сводила.
Сначала он вспомнил передачу «Черный квадрат» обо мне и моем деле, которую случайно посмотрел вместе со своей женой, будучи еще на свободе. «Я тогда подумал, вот же не повезло пацанам», - рассказал он. - «Я бы за свою жену вообще не знаю, чтобы с этими гадами сделал!».
А потом при более близком общении он вспомнил и такой момент из своей жизни. Гуляя со своей тогда еще будущей женой по набережной Днепра, они обратили внимание на свадьбу. Недалеко от памятника Лыбеди с братьями стоял длинный лимузин, а жених с невестой фотографировались на его фоне. Дату он запомнил потому, что именно тогда он сделал любимой предложение. 17-е августа 1993-го года. День моей свадьбы.
Такие совпадения не могли не сблизить нас друг с другом. Он рассказал о своем деле, я о своем, чего он не знал. Его преступление состояло в том, что со своим другом, пацаном на пару лет младше его по просьбе какого-то знакомого пытались забрать деньги у должника. Как в те времена было принято, они встретили последнего около подъезда, посадили в машину, завязали глаза, отвезли на съемную квартиру и там возможными средствами попытались его «уговорить» отдать долг. Хорошо, что не переусердствовали. Должник остался жив и почти здоров. Но в милицию пойти не побоялся.
В милиции, конечно же не стали разбираться, кто кому был должен, а возбудили уголовное дело, довели до суда, который закончился приговором. Паше восемь лет, его подельнику шесть.
Сам Павел родился и вырос не в Киеве. Но еще после 8-го класса он приехал из какого-то городка в Тернопольской области в Бровары, где находился один из известнейших на Украине спортивный интернат. Боксом Паша занимался с детства.
Получив там среднее образование, он остался в Киеве. Спортивную карьеру делать не стал, объясняя это подорванным уже к тому моменту здоровьем. Которого, впрочем, вполне было достаточно, чтобы сотрудничать с какой-то из рэкетирских группировок, в сферу интересов которой входили левобережные районы Киева.
Было у нас с ним довольно много общего. Молодые красивые жены, которых даже звали почти одинаково (его Алена, мою Елена), автомобили BMW и, знание непростой жизни бизнесменов и рэкетиров начала 90-х изнутри. Кое в чем мы дополняли друг друга. Я был намного более спокоен, лучше разбирался в бизнесе, а он хорошо понимал бандитскую психологию (сам такой) и мог говорить с такими же на понятном им языке. И с понятными интонациями.
Я уехал на этап раньше Паши. И думал, что его уже никогда не увижу. Он, в отличие от меня, не писал никаких заявлений, типа «хочу отбывать наказание в такой-то колонии». Он вообще сидеть не хотел.
Но каково же было мое удивление, когда мне сказали, что он появился на карантине в числе прочих этапников из Киева через неделю после Нового года. Я тогда находился на санчасти, и уже в качестве кое-что знающего зека приходил на этапку в гости к Паше. Рассказывал о том, что сам узнал к тому моменту. Он, в свою очередь, несколько раз посещал больничку, где я познакомил его с Витей Кикером. У этих двух сразу нашелся общий язык. Да и такие люди, как я говорил выше, были необходимы для усиления «киевской группировки».
Не без помощи Вити распределили Пашу сразу на 10-й отряд. Таким образом жизнь свела нас в третий раз. Через некоторое время после того, как шеф выписал меня с санчасти, поднялся с карантина и Паша. Косой поселил его в 8-й кубрик.
Конечно же мы стали семейничать. Месяца через полтора после моего свидания средства для безбедного существования на отряде подошли у меня к концу. Паша же еще не успел ни сходить на свидание, ни получить посылку. Поэтому наша жизнь началась с каждодневного решения элементарного вопроса. Что бы и как поесть. Я до сих пор еще не закурил, поэтому мне немного было проще. Павлику приходилось и сигареты себе искать.
Ситуация была двоякая. С одной стороны, порядочному пацану не пристало ходить по бараку и просить ингредиенты для супа. С другой стороны, если другой порядочный пацан видит, что у первого нечего есть, то должен сам поделиться тем, что сам имеет. Но так выглядело в идеале. А на практике редко после каких-то бесед, обсуждений вопросов по жизни, кто-то интересовался: «как там, пацаны, нуждаетесь в чем-то?». Поэтому мы часто стреляли у наших друзей из киевской группировки овощи, картошку, подсолнечное масло и другие продукты. У них что-то попросить отношения позволяли.
Еще мы смогли договориться с одним пенсионного возраста зеком, Витиным земляком и конем, о том, чтобы он приносил нам со столовой готовую картошку. Которую давали на ужин. Но за неё нужно было платить сигаретами, которые были в дефиците. Да и сам способ доставки продуктов был достаточно скользкий. С точки зрения понятий. Могли бы сказать, что если вы считаете возможным есть хмыревскую пищу, то не стоит понтоваться, а идите в столовую и там ешьте со всеми.
Тариться разрешения у нас не было, а если бы и было, то наши оскудевшие возможности вряд ли позволили нам платить за дорогу ментам и за сами продукты в столовой. Бывали дни, когда удавалось прожить только на бутербродах из хлеба и жира, который набирали в столовой наши имеющие разрешение друзья, но сами не ели. По причине его сомнительного качества. Ну что ж, блатне життя не легке. Але ж цикаве.
От этого жира и гренок, пожаренных при помощи плитки на подсолнечном масле, которые мы с Пашей ели через день (другой пищи не было), у него обострился гастрит. В середине марта на санчасть лег уже он. Там ему, конечно же, стало немного проще. Витя, «лечившийся» и до тех пор, был обеспечен всем необходимым. Я продолжал голодать, сидя на хлебе и сладком чае. Иногда мне удавалось прийти на санчасть для того, чтобы проведать Витю с Пашей и последний приглашал меня пообедать с ним (Витя по прежнему питался в одиночестве). Но и это было опасно, так как люди могли предъявить мне то, что я хожу на больничку и вместо того, чтобы носить туда грева, объедаю больных. Не порядочно. Другое дело лежать там самому и считаться больным.
Так продолжалось до середины апреля. 16-го числа мы с Пашей пошли на свидание. Еще за два месяца до этого в письмах своим женам предложили им встретиться, познакомиться и приехать вместе. Так веселее и проще. Да и на свидании будет еще интереснее. Дружба семьями, так сказать.
Как положено, каждый из нас написал заявление о свидании на определённые числа. Не обошлось без доплаты, средства на которую мы заняли у Вити, чтобы нам их подписали. Все прошло благополучно, Пашин брат помог с транспортом и в тот прекрасный день рядом с санчастью Сонька прокричал Пашину фамилию, а рядом с 10-м отрядом мою.
В этот раз встреча на лестнице произошла без слез. Лена была сама, моя мама в конце декабря еще уехала в Мурманск и про неё ничего не было известно. Или Лена скрыла от меня то, что мама умерла в Саратове еще 13-го марта. Я узнал об этом в октябре.
Мы сразу уединились в своей комнате. Паша с Аленой в своей. Интим вперемешку с обсуждениями новостей продолжался пару часов, после чего жены отправились на кухню готовить нам домашнюю еду, по которой мы тоже соскучились. Потом собрались в чьей то комнате и устроили совместный обед.
По сравнению с отношениями в Пашиной семье, у меня с Леной все было идеально. Мне верилось в то, что она по-прежнему любит меня и не представляет себе свою дальнейшую жизнь без связи со мной. Я видел то, что хотел видеть. Мне и не приходило в голову, что уже в тот момент она приехала ко мне исключительно из чувства долга и обязанности поддержать в трудную минуту. Но не из огромной любви. Это наше свидание оказалось последним.
У Паши с Аленой вообще разгорелись латиноамериканские страсти. Он устроил жене форменный допрос, с кем и как она проводит время, какие у неё отношения с сотрудниками (а работала она в какой-то фирме, торгующей косметикой) и нет ли у неё в мыслях ему изменять. Когда её ответы показались ему неубедительными Паша не на шутку разнервничался и закончилось тем, что он чуть не зарезал свою жену столовым ножом (на свидании они, понятное дело, разрешены). Слава Богу, прибор оказался из китайских товаров широкого потребления и сразу же поломался, не пройдя через одежду.
Это его немного отрезвило и все оставшееся время он умолял любимую простить его, понять и не сердиться. Алена его поняла, простила и сердиться перестала. Но так испугалась, что больше на длительное свидание ни разу не приехала. До его освобождения к нему приезжали старики-родители, жившие в Тернопольской области. Иногда брат.
Присущая многим бывшим и настоящим боксерам вспыльчивость и неумение выражать свои эмоции просто словами, а тем более их сдерживать, сыграло с Пашей такую шутку. Было видно, что их с Аленой любовь взаимна и его срок могла бы и выдержать. Она даже потом писала мне об этом в ответе на мое, написанное по Пашиной просьбе, письмо. Но связывать свою дальнейшую жизнь с психом у неё смелости не хватило. А может, просто хватило ума.
Мое, однако, спокойствие и видимое восхищение своей Леной тоже не стали тем цементом, который мог бы скрепить разрушающиеся под действием времени отношения. С женой мне повезло, но только поначалу. А впоследствии прав оказался Виктор Суворов, автор «Аквариума». «Красивая жена – чужая жена».
На свидании мы пробыли двое суток. Сидеть взаперти три дня с не такими уже и любимыми к тому моменту мужьями наши жены не захотели. Понять это можно. Тогда родственников тоже не выпускали из здания, как это стали делать впоследствии. Только через пару лет после того разрешили выходить в обеденный перерыв в магазин, чтобы докупить какие-то недостающие продукты или вещи, позвонить по телефону. И если зеку, отбывающему наказание, двое-трое суток длительного свидания были равны пребыванию на свободе (ни режима, ни работы, общение со свободными людьми), то для приехавших ситуация была зеркальным отражением. Для них это было похоже на то, что их посадили в тюрьму на пару суток.
С получением передач в этот раз проблем не возникло ни у меня, ни у Паши. Не очень большая доплата за лишний вес, и мы забрали все привезенное сразу же. И в этот раз моя жена, а с ней Пашина, потратились не на шутку. Кроме этого, Лена передала мне 50 долларов, упакованных, как я её учил, в металлический тюбик зубной пасты.
Все самое интересное и остросюжетное началось через неделю после нашего выхода со свидания. От меня все ожидали многого. Витя, правда, остался доволен. Паша после свидания еще несколько недель кормил его домашней пищей, а это было немаловажно. Я поделился деньгами, можно сказать отдал долг за первую заботу обо мне.
А вот смотрящему отряда сделанный мной взнос в общак показался недостаточным. Должен сказать, что к этому моменту на отряде был уже полноправный смотрящий, не и.о. Сидор поднялся с БУРа где-то за месяц до моего свидания. О том, что мне передали деньги он конечно знал. Не знал, правда, сколько именно. Но думал, что достаточно. Когда я зашел в шуршу с чаем, сигаретами, кофе и другими мелочами, отдал, сказав традиционную фразу «на общее», он, поморщившись, спросил: - «Это все?».
Конечно же я до того, как заносить что-либо на общак, советовался с Кикером. Даже не столько советовался, сколько просто запоминал, что он скажет. Я не знал, что именно в тот момент Витя начал манипулировать мной как пешкой в шахматной игре, выигрышем в которой было место, занимаемое Сидором. Цель была – поставить своего человека. Чтобы спать спокойно. Сидор по причине огромного самомнения и массы вредных привычек, наркомании в частности, был человеком совершенно непредсказуемым. А с таким смотрящим Витя не мог быть уверен в том, что ему завтра не усложнят жизнь. Не запретят тариться, например.
Я сказал, что «да, все».
- Ну что ж, спасибо, - прорычал Сидор, и я начал догадываться, что что-то явно не так.
Переспрашивать, однако, было глупо. Я же был «понимающий». Спалось мне в ту ночь не очень спокойно.
На следующее же утро опять я пошел «навещать» Витю с Пашей. Кикер первым делом пригласил меня в закрывающееся изнутри помещение воспитательной работы и начал расспрашивать. Как отреагировал Сидор на мой заход к нему в шуршу, что говорил до, что после, чем интересовался. Услышав пересказ нашего короткого разговора и мои впечатления, он сказал:
- Сегодня обязательно поучаствуй в чаепитии и обсуждении положения на отряде.
Такие обсуждения происходили ежедневно и иногда продолжались вообще без перерыва. Кто-то из блатных, смотрящий или его семейники, некоторые уважаемые мужики постоянно сидели в шурше, пили чифирь и общались на разные темы.
Это была отдельная комната, по размерам больше комнат завхоза и начальника отряда. На ее двери было написано «библиотека». Действительно, там стояла полка с книгами, стол. Был даже аквариум с рыбками. На стене висел настоящий (не нарисованный) ковер, пол был покрыт неплохим (целым) линолеумом. По периметру стояли табуретки и стулья. Зайти туда, в принципе, мог каждый (может, кроме петухов). Но многие чувствовали себя там неуютно. А некоторые посещали это место только после свиданий, чтобы занести на общак или для того, чтобы изложить смотрящему, а если его не было кому-то из блатных беспокоящий вопрос. А может на кого-то пожаловаться. Именно там спрашивали и разводили рамсы.
В принципе, учитывая то, что я жил в общаковой хате, то и в шурше был гостем нередким. Не буду кривить душой, одно время я даже думал стать там одним из хозяев. Но именно в тот день мне идти туда почему-то не хотелось. Я надеялся дождаться какого-то намека со стороны Сидора, какого-то разговора о том, что неплохо бы где-то взять денег. Тогда уделил бы внимание и наличными. Чем немного поднял бы себя в его глазах. И жил бы дальше спокойно (наивный!). Вите я об этом сказал.
- Ты чё, боишься? – с удивлением, смешанным с насмешкой, спросил Кикер.
- Да ни в коем случае, - ответил я.
- Так вот и не ссы! А завтра придешь и расскажешь, о чем речь шла.
Чем мое присутствие в барачном сходняке должно закончиться, Витя прекрасно просчитал. Может, он и не мог предсказать точно, какой именно повод для обострения придумает Сидор и какие слова именно будут сказаны, но в принципе он ничуть не ошибся.
Смотрящий тоже прекрасно видел, откуда ветер дует и с кем он играет. Игру он принял. Такого рода манипуляция людьми была у них одним из хобби, наряду с азартными играми.
Когда после вечерней проверки братва по традиции стала собираться в шурше пить чифирь, я появился там один из первых. Поначалу было человек пять. Два мужика, по масти, но по возрасту пацаны где-то моих лет, работавших во 2-м цеху слесарями, Костыль (от имени Костя) и Керчь ( из города с таким названием). Парнишка лет 19-ти по прозвищу Зона (он и приехал на лагерь с малолетки), который ходил на промку по причине отсутствия 10-ти долларов в месяц, но там не работал. Пацан из Львова, с 12-ю годами срока, живший тоже не то блатным, не то мужиком, передачи которого, регулярно привозимые ему родителями давали возможность и платить отрядному, и делать такие же взносы на общее. Был сразу и Сергей, Нарик, семейник Сидора и Косого.
Со всеми вышеперечисленными парнями я был к тому времени неплохо знаком, общался и относились все ко мне неплохо. О том, что я немного «не донес» со свидания на общее они еще не догадывались. У нас началась непринужденная беседа. Я стал рассказывать о состоявшемся свидании, о новостях из Киева, о том как Паша «мило пообщался» со своей женой.
Закончить я не успел. Появились Сидор с Косым.
Обычно в таких случаях запускалась по кругу кружка с чифирем, Сидор начинал говорить на тему понятий, общего, положения на лагере, рассказывал о решениях, принятых на других отрядах по разным вопросам. Язык был у него подвешен хорошо и тему он знал. Поэтому говорить он мог долго. Слушали его, как правило, с интересом.
Так произошло и на этот раз. Как всегда, смотрящий начал с того, что для общего хорошо и что плохо. Кто может считаться действительно порядочным, кто достоин иметь какие-то привилегии перед общей массой. Кому, например, кони могут носить хлеб со столовой, кому нет. Кому и за какие заслуги братва может позволить не выходить на работу. Что от этих людей ожидают, какая от них должна быть польза общему.
Монолог вскоре начал приобретать конкретные формы и четкое направление.
- Некоторые тут у нас думают, - говорил он, - что они приехали на зону отдыхать, качать булки (так блатные называли занятия спортом, железом в частности), валяться бандеролью на наре и никакой пользы общему не приносить при этом. Так вот, они ошибаются.
- Все ли из здесь присутствующих достойны вообще находиться в этой шурше? – спросил он. - Вот ты, например, Керчь, что сделал для общего за последний месяц?
Олег, а так, кажется, звали мужика, приехавшего из Крыма, улыбнулся. Ему было, что сказать.
- Я, говорит, сделал два охотничьих ножа, - ответил он. – И вынес из цеха на отряд.
Каждая такая «охота» стоила в пределах 30 долларов.
- А я третий доделываю, - сказал Костыль.
- Ты, Зона, что скажешь? – обратился он к малолетке.
- Я через день общак на санчасть и карантин ношу, - сказал он. – И ширпотребщикам помогаю.
С Зоны действительно тяжело было требовать чего-то большего, так как он посылки получал хорошо если раз в полгода, а на свидании вообще никогда не был. Его основная польза была в том, что он выполнял различные поручения Сидора или Косого. Такие, которые были приемлемы порядочному пацану, были связаны с общим.
Львовский ответил, что он в этом месяце дал ширпотребщикам с отряда сигарет, чая, и купил у них икону, две шкатулки и сдал их в общак. Это тоже можно было оценить долларов в тридцать.
- А ты что скажешь, Шемарулин, - дошла очередь и до меня.
Понятно, что сам Сидор и его семейники одним своим положением и статусом приносили пользу общему.
Я сказал то, что и было:
- Вот, со свиданки вышел, сигарет, чая, кофе, продуктов на общее занес.
- И ты считаешь, что эти пара пачек сигарет, сотня граммов чая и банка консервов – достойное уделение внимания общему с твоей стороны, со стороны барыги, который миллионами ворочал?
Он, конечно, значительно приуменьшил количество занесенного мной за день до того, чем показал неплохое владение приемами НЛП. Даже не зная такой аббревиатуры.
Не ответить я не мог.
- Постой, Сидор, почему это барыги? - спросил я, - То чем я занимался и барыжничество – разные вещи.
- Да ни х*я не разные! – взорвался он. – Знаю я твою делюгу. Барыга ты голимый, а потерпевшие у тебя такие же пацаны, как мы.
Он имел в виду всю «черную масть». Тех, кто по их понятиям должен с барыг получать.
И тут я сказал фразу, которая хоть и потешила мое самолюбие, показала, что парень я далеко не трусливый, но стоила мне миллиардов нервных клеток, заставила меня пережить несколько бессонных ночей и послужила толчком к тому, что я закурил. В 24-х летнем возрасте, будучи принципиальным противником курения.
- Точно! Такие как вы - у меня потерпевшие!
Это было смело! Обозвать любого зека терпилой почти то же, что и петухом. Потому что когда-то раньше, во время строгого соблюдения понятий, тому, кто хоть раз писал в милицию заявление о том, что он потерпевший, в тюрьму лучше было не попадать. Считалось, что по такому заявлению могли кого-то посадить или посадили, тем самым был принесен вред пацану, совершившему преступление. А за это надо было наказывать. Таких, если о написании заявы становилось известно, обычно опускали. А попасть на один лагерь с тем, кого по твоему же заявлению закрыли, было подобно смерти.
Я фактически назвал терпилой смотрящего. Не прямо, но он это понял.
Бить меня здесь и сразу он не мог. Это был бы беспредел. И хотя все поняли, до чего наш разговор дошел, кто кого и как назвал, Сидор сделал вид, что ничего особенного я не сказал и продолжил приблизительно так:
- Так вот ты сидишь тут ни хрена пользы не принеся, а семейник твой, Паша, который на санчасти, с понтом больной, вообще отморозился! Хотя к нему отнеслись как к порядочному, в нормальную хату поселили.
Строго с точки зрения понятий Паша имел полное право на отряд не заходить, никаких гревов не передавать вообще. Санчасть – святое, там людям нужнее, наоборот, туда все несут. Но принято было так, что любой зек, числящийся на отряде, уделял внимание своему отрядному общаку. Где бы он при этом не находился (ну, кроме ямы, конечно). Паша просто к тому моменту еще не успел ни разу на отряд прийти. Как раз на следующий день собирался. Да и чувствовал он себя после свидания не очень хорошо. У него, как и у меня после первого длительного свидания, обилия домашней пищи с непривычки, случилось расстройство желудка.
Но этими словами Сидор отправил меня на санчасть пересказывать их и Вите, и Паше. Для этого ему не потребовалось оставлять меня после базара и прямо говорить «сходи до Кикера, расскажи ему все, что я думаю». Слова про «с понтом больного» Пашу врезались мне в память.
Сидор отпасовал меня обратно. Интересно, что я даже и тогда еще не чувствовал себя шариком для пинг-понга. Мне казалось, что я сам по себе такой важный, со смотрящим спорю по поводу общака, с Кикером на равных разговариваю о том, как вести себя порядочному зеку.
Выражение «с понтом больной» Вите очень понравилось. Это было именно то, что нужно. Смотрящий не мог поставить под сомнение болезнь порядочного пацана. Это надо было бы обосновать. А если обосновать не получилось бы, то Паша имел полное право за слова спросить. Как спрашивали, я уже описывал.
В тот день после вечерней проверки Паша пришел на отряд. До этого нас обоих проинструктировал Кикер. Что должен был сделать Паша, что я. Сам он, как и следовало ожидать, с нами идти отказался. Говорит, если я с вами пойду, всем сразу станет ясно, кто за этим стоит и кому это надо. Все эти рамсы. Как будто это еще кому-то было неизвестно.
В шурше все собрались быстро, ведь такие представления давались не часто. После того, как какого-то мужика ловили на воровстве у своих или заставали в момент поднятия окурков с земли, процесс определения происходил быстро. Пригласили, поинтересовались, «правда – нет?», в зависимости от ответа побили сильно или не очень, объявили ему, что он отныне крыса или черт, что жить будет в первой хате, попили чая и разошлись. В таких сюжетах не было особой интриги.
В этом же случае результат разборок мог быть непредсказуем. Большинство, конечно, склонялось к мнению, что Сидор свои слова обоснует, а с Паши или с меня спросят за то, что поставили под сомнение смотрящего. Его оценку пользы, принесенной нами общему.
Но были и те, кто подозревал - не все так просто. О том, что за мной стоит Витя Кикер и «киевская группировка» некоторые догадывались.
Началось с того, что Сидор поинтересовался у Паши, как того здоровье. По большей части с иронией. Иронию, правда, не предъявишь. Мой семейник при всех сообщил, что он по болезни не мог прийти сразу после свидания. Но как только немного пришел в себя, оклемался, так сказать, собрал кое-какой грев и принес на отряд. На общее. При этом он показал на средних размеров баул, стоявший в углу шурши. Его еще днем доставил в Пашину хату шнырь санчасти.
А дальше пошло самое интересное.
- Мне, - сказал Паша, - мой семейник, словам которого я не имею оснований не доверять, рассказал о том, что тут вчера говорили про меня в мое отсутствие. Что якобы я общему внимания не уделяю, лежу бандеролью на санчасти и вообще ничем не болею. Хочу вот поинтересоваться, правда это? Говорил кто-то что-нибудь такое?
- Да, - сказал Сидор на правах хозяина помещения, - говорили. Переживали за твое здоровье. Предполагали, конечно, что ты очень болен, настолько, что на отряд прийти не можешь, рассказать, как там на воле, как жена, ждет или нет.
Об общаке смотрящий намеренно не сказал ни слова. Он то знал, что сейчас все фиксируется в памяти присутствующих. А намекать больному, лежащему на кресте, на то, что он должен делиться своими гревами, значило бы, что с понятиями у него плоховато.
- Интересовались, говоришь, - произнес Паша, - А о том, что я «с понтом больной» ты не говорил?
- Кто такое говорил? – ответил Сидор, и, обращаясь ко всем присутствующим, сказал - Кто-нибудь слышал вчера что-то подобное?
Только в этот момент я начал немного понимать, чем это все грозит именно мне. От тех слов, которые можно было ему предъявить и спросить за них, он фактически отказался. А я, передав их Паше, становился интриганом, человеком, пытающимся поссорить порядочных пацанов. Разругать братву между собой. С таких спрашивали покруче, чем с блядей.
- Я, - продолжил смотрящий, - говорил дословно так: «А этот семейник твой, Паша, который на санчасти, сильно больной! Отморозился. Хоть его в нормальную хату поселили». А что я скажу, - продолжал он, - пацаны тут за него переживают, грева передают (Зона жил в той же хате), а он хоть бы маляву написал, «так мол и так, болею немного, но ничего, пацаны, подлечусь, зайду на отряд, спасибо за грева и так далее».
На этом он не закончил.
- А кто тебе так передал, «с понтом больной»? – спросил он, зная ответ. – Семейник твой, с неясным прошлым?
На случай отказа Сидора от своих слов Паша инструкций не получил. Но, имея опыт участия в бандитских стрелках и придерживаясь тех еще понятий, что семейник всегда прав, сказал так:
- Семейник мой. С порядочным прошлым. И будущим тоже. И я подозреваю, что ты, дружище, включаешь заднюю. А поэтому, что бы никто тут под твою дудку не плясал, давай назначим встречу на завтра, уважаемых людей с других бараков пригласим. Они переговорят со всеми, кто при вчерашнем базаре присутствовал. И узнают точно. Кто и что говорил.
Это было правильно. Учитывая, что этот рамс касался Пашу, а он в тот момент лежал на санчасти, он имел полное право требовать присутствия других людей, братвы. Да и разногласия возникли между пацаном и смотрящим отряда. Сам смотрящий в отношении себя разрулить их не мог.
Еще в таком случае появлялся шанс, что кто-то подтвердит то, что Сидор произнес именно слова «с понтом» больной. Если бы у него были тайные недоброжелатели из присутствующих, одного такого подтверждения было бы достаточно, что бы лишиться места. Должен заметить, что блатные умели проводить в таких случаях следственные действия не хуже, а иногда гораздо эффективнее любых оперов из райотделов.
Если надо было что-нибудь у кого-нибудь выяснить, они приглашали в шуршу человека и форменным образом его допрашивали. Если он не подозревался ни в чем слишком предосудительном, не били. Но вопросами с разных сторон, зацепкой за слова и длительностью разговора вынуждали человека в конце концов рассказывать все, что он знает. Или даже думает.
Сидор, зная об этих методах по практическому их применению на других людях, не мог пригласить каждого из участвующих в том памятном разговоре к себе и прямо сказать: «Будешь говорить так и так». Это бы по-любому всплыло. И отразилось на нем не лучшим образом. Но можно было рассчитывать на то, что все, кроме меня скажут, «не помним дословно, как он сказал». В таком случае весь рамс сводился к слову Сидора против моего. А в этом случае решение братвы, чьим словам поверить, зависело от того, у кого больше заслуг. В своих он не сомневался.
На этом всем пришлось разойтись. Паша вернулся на санчасть. А я в хату. В ту самую, где был соседом Сидора и семейников.
Вечером , точнее даже ночью, он устроил для меня представление. Началось с того, что после ночной, 23-х часовой, проверки, он завел с Косым разговор о разных памятных ему случаях. Как спрашивали с чертей, с крыс и с интриганов. Каково было потом некоторым из них, с десятью годами срока впереди, брать в руки швабру, ведро, каждый день ходить по продолу, мыть пол. Убирать шурши, пищевку, умывальник. За плохую уборку получать от завхоза (а чистоту он любил). О том, что некоторые не спят, пока качество уборки не устроит старшего дневального. А потом еще и на шары могут поставить. Спать на которых никак нельзя. Прое*ать можно. А за это такое бывает! Не позавидуешь!
Я, само собой обращал внимание на шнырей отряда, заходил в первую хату, с некоторыми разговаривал. Ставил шары и сам. Силуэт сидящего на подоконнике шарового в моей памяти запечатлелся. Условия у них были противоположными тем, в которых жили смотрящий с семейниками. Холод. Грязные шмотки, вечно мокрые от тряпок и ведер. Вонючие матрацы и подушки. Такое же бельё. Невыносимый запах в кубрике. Оконная рама с одним стеклом, все в щелях, из которых все время дул сквозняк.
Постоянная темнота в хате, связанная с тем, что свет включать было нельзя. Тогда снаружи был бы виден в окне зек, наблюдающий за ментами.
Именно такого шарового Сидор решил в тот вечер использовать для наглядной демонстрации того, что меня в ближайшем будущем ожидало. По его мнению.
Случайно так получилось или было задумано, но в тот день один из шаровых какого-то контролера провтыкал. Отшманали что-то или нет, застали кого-то за запретом или не застали, я не помню. Да это было и не важно. Сам факт того, что шнырь заснул на шарах уже был основанием с него спросить. И Сидор, после слов о том, что судьба у них тяжелая, крикнул на весь отряд кличку ночного дневального.
Тумбочка последнего была в противоположном конце коридора, но смотрящего он всегда слышал хорошо. Строго говоря, в этом тогда была основная его задача. Слушать, не зовет ли смотрящий.
Послышался топот. Через десять секунд дверь хаты приоткрылась и появившаяся в дверях голова ночного тихим голосом спросила: «Саша, звал?» (Удивительно, но Сидора тоже звали Саша).
- Звал, - своим характерным хриплым голосом проговорил Сидор. – Зови сюда того урода (он назвал погоняло), который сегодня шары прое*ал.
Через пару минут появился зек, по масти крыса, по человеческому имени Алексей. Это был парень, где-то двадцатипятилетнего возраста, довольно таки здоровых размеров (больше Сидора), с широким добродушным лицом. Хотя в тот момент оно было далеко не добродушное. Испуганное, хоть он и пытался всеми силами это скрыть.
Леху я знал лучше других шнырей. Именно он носил мне пайку со столовой и в какой-то мере считался нашим с Пашей конем.
Сидор, до того полулежавший на наре, сел на край. Одел свои фирменные кроссовки. Потом встал, медленно подошел к Лехе и голосом, не предвещавшим для того ничего хорошего, произнес.
- Ну шо, крыса? Не высыпаешься?
Как раз к моменту окончания этой фразы, он был уже рядом с провинившимся шаровым. Послышался глухой, но судя по всему сильный удар.
Я, лежа на своей наре, на втором ярусе над Косым, поначалу на весь этот процесс не смотрел. Заснуть я конечно же не смог бы. Даже если и хотел бы. Поэтому приходилось сначала слушать разговор Сидора с семейником, а потом и звуки, сопровождающие наказание. Наблюдать не хотелось. Но разошедшийся блатной не мог позволить единственному зрителю, ради которого все и было устроено, не посмотреть этот спектакль.
- Шемарулин, шо отвернулся? – прорычал он, - может спишь? Тоже спать любишь? Посмотри, как за шары спрашивают. Запомни. Через пару дней, уверен, и с тебя так спрашивать будем!
Я приподнял голову, пододвинул подушку, облокотился на неё и начал внимательно наблюдать за происходящим. Пытаясь не выказывать волнения.
Вряд ли это у меня получилось. Я попытался отвлечь свое внимание тем, что стал вслушиваться в игравшую в хате музыку (в единственном кубрике на отряде имелся запрещенный магнитофон, у смотрящего не отшманывали). Ноговицын. «Море черное, рыбка копченая».
Но и музыку иногда было плохо слышно, потому что после пары ударов в область печени и солнечного сплетения, сдерживавшийся до того Леха начал стонать. Когда он падал, Сидор брал его или за уши, или за нос одной рукой, поддерживал другой за куртку и, крича при этом ему в лицо: «Встал, скотина!» поднимал беднягу обратно на ноги и опять бил. Издевался он над ним так не десять минут и не пятнадцать. Просто когда он слегка уставал и давал своим рукам пару минут передышки, говорить не заканчивал.
«Вы, суки, крысаки, шныри и интриганы, - хрипел он, - научитесь уважать нас, блатных! Я научу! Я блатной! Я живу этой жизнью! Это мое, а ваше – вонючие тряпки, шары, стирка носков! Хоть так вы, уроды, принесете пользу братве! Если по другому не хотите!»
По правде говоря, до того, как я первый раз увидел Сидора, приблизительно так и представлял себе настоящего блатного. Он был немного ниже моего роста. Ходил характерной переваливающейся походкой с чуть отведенными от туловища и немного согнутыми в локтях руками. Его татуированные пальцы, казалось, не могут принимать никакую другую, кроме веера, форму. Слегка горбился и втягивал голову в плечи. Если надо было повернуть голову, он поворачивал не шею, а все туловище. Говорил глухим хриплым голосом. В нос. Правильнее сказать мурчал. Точнее не назовешь. По виду он был гораздо блатнее моих потерпевших.
Где-то через час экзекуция была наконец закончена. На отряд пришел кто-то из знакомых смотрящему прапоров, о чем сообщил ночной дневальный. Сидор накинул свою черную коттоновую куртку (своего рода униформу блатного на нашем лагере), подошел к моей наре и, глядя мне в глаза, сказал:
- Спокойной тебе ночи, Шемарулин. Выспись, а то завтра у тебя тяжелый день. А послезавтра еще тяжелее. Да и пятнашка впереди!
Этим он подвел итог проведенной психической атаке на меня. Хоть мне оставалось к тому моменту и не пятнадцать лет, но это небольшое преувеличение (опять НЛП!) напомнило о том, что и так все не очень прекрасно в моей жизни складывается. А реальная перспектива до конца срока прожить таким вот Лехой могла бы прямо сразу отправить меня в умывальник вскрывать себе вены. Может, он на это и рассчитывал.
Оканчивать жизнь самоубийством так сразу я не собирался. Сценариев дальнейших событий за ночь я продумал, однако, немало. Хотелось бы надеяться, что Витя, Паша и парни из Витиной группировки не допустят до такого результата. Который был предсказан мне Сидором. Но и демонстрация власти и возможностей, которую я только что наблюдал, не внушали особого оптимизма. Так или иначе, проведя ночь в полубредовом состоянии, еле-еле дождавшись утра, в половину седьмого я пошел на санчасть.
Кикер еще спал, Паша уже нет. Я не смог удержаться от того, чтобы сразу не рассказать о том, что происходило ночью и не поделиться беспокоящими меня мыслями. Само собой, что больше всего я хотел услышать слова поддержки. Конечно же, Паша меня сразу стал ободрять. Он говорил, что так как хочет Сидор – предъявить мне интриганство и за него спросить, то придется ему предъявлять нам обоим. И определять двоих сразу. А это у него вряд ли получится. Силенок маловато. Ведь если что, за нас все киевские подпишутся. Спортсмены, которых не так и мало. В общем, мы без боя не сдадимся.
Проснувшийся Кикер наш боевой порыв немного охладил. Блатных, говорит, все равно больше. И администрация нас вряд ли поддержит. Поэтому бороться с ними будем их же оружием. То есть собираться со всеми и базарить.
У Вити среди уважаемых на лагере людей было достаточно знакомых. Таких, которые на сходняке могли бы принять его сторону. Но для того, чтобы так и произошло, необходимо было до предстоящего базара с ними встретиться и изложить ситуацию. Требовались дипломатические и политические шаги.
За этот день в проведать Витю пришло много разных людей с разных отрядов. Первым делом они уединялись с ним. Как я понимаю, он излагал свое видение событий, советовался с гостями по поводу сил и возможностей Сидора, подсчитывал голоса за и против и каким-то, одному ему известным образом заинтересовывал их поддержать нашу точку зрения. Которая заключалась в том, что смотрящий намеренно ставит порядочных пацанов под сомнение так как опасается конкуренции. Того, что новые люди увидят массу неправильных, непорядочных поступков. А может, и про «нецелевое» использование общака узнают.
После разговора с Витей каждый говорил со мной. Что именно сказал Сидор, какими словами, кто при этом присутствовал. Многим, конечно, было интересно послушать о проведенной ночью психической атаке. Но особенно это никого не удивляло, так как такое обращение со шнырями было для всех в порядке вещей.
В конце концов мне были даны строгие инструкции. Я должен был несмотря ни на что настаивать на том, что Сидор сказал фразу «с понтом больной». Только в таком случае у нас всех появлялся шанс решить весь рамс в нашу пользу. В противном случае меня ожидало именно то, что так ярко было мне продемонстрировано ночью. Короче, «задней» передачи быть не могло.
Сходка была назначена на три часа дня. В шурше 10-го отряда. Костыль, Керчь, Зона в тот день на работу не пошли. Их должны были вызвать в качестве очевидцев (свидетелем, как и потерпевшим, порядочный пацан быть не мог).
За час до назначенного времени мы все были на трехэтажке. Витя на этот раз пришел вместе с нами. Ведь собирались уже не блатные одного отряда, а братва всего лагеря. Во главе с положенцем. Сорок минут перед сходкой мы провели в хате одного из киевских пацанов на 11-м отряде. Обсуждали все возможные варианты и действия разных участников предстоящего собрания. Кто будет, к кому тот или иной человек ближе. К нам или к Сидору. То, что недоброжелателей у него по всему лагерю было много, играло нам на руку. Но меня особенно не утешало.
Последние минуты перед тем, как подниматься на 3-й этаж, идти в шуршу, где собрались уже почти все (а это порядка 20 блатных со всех отрядов), я не мог чувствовать себя спокойно. Да и никто меня не стремился успокоить, так как по мнению многих, все зависело от меня и моей выдержки. Только Паша, из желания меня поддержать, прикурил сигарету и дал её мне.
- На, - сказал он, - затянись. Это успокаивает. Сигарета была LM. Первая сигарета в моей жизни. Но в тот момент последнее, о чем я мог подумать, так это о вреде курения.
Первая же затяжка произвела необходимый эффект. Закружилась голова, тревожные мысли и боязнь за ближайшее будущее отодвинулись на какой-то задний план и приобрели неясные очертания.
- Вот теперь пошли, - проговорил кто-то из присутствующих.
Мы и пошли. Поднялись на один этаж. Прошли по продолу и по одному вошли в шуршу. Почти все уже были на месте.
Слово взял положенец лагеря. Саша, прозвище Щукарь. Матвей к тому моменту уже освободился. Того, кто поменял его на этом посту я за срок узнал достаточно хорошо. Но и тогда он видел меня, а я его, не первый раз. До того, как стать положенцем лагеря он был смотрящим 2-го отряда. Знакомы мы были с ним по санчасти. Он заходил здороваться с Кикером, где познакомился и со мной. Однако одна встреча не могла никак охарактеризовать меня в его глазах и поэтому на какое-то особое отношение я рассчитывать не мог.
- Возникла тут проблема, - сказал положенец. – Пацан, этапник, недавно заехавший на наш лагерь предъявляет смотрящему отряда, что тот поставил под сомнение его болезнь. С которой он находится на кресте. Якобы, от того, что этот пацан лежит на санчасти, без достаточных на то оснований, а не живет на отряде, нет пользы общему. А каждый порядочный пацан именно тем и порядочный, что живет общим делом. Делом братвы.
- Смотрящий же, в свою очередь, - продолжал он, - пацан, которого мы все знаем и уважаем, Сидор, на это отвечает, что никаким образом он болезнь пацана под сомнение не ставил. Наоборот, говорил, что он «сильно больной». Но кое-кто или непреднамеренно, по глупости, или спецом (специально) передал тому пацану на санчасть слова Сидора не в той форме, в которой они были сказаны. Что спровоцировало между ними конфликтную ситуацию. И нам, братве, придется в этой ситуации разобраться, развести этот рамс. Для чего первоначально надо выяснить, что же все-таки говорил Сидор.
- Повтори перед всеми, как ты говорил, - обратился он к Сидору.
Последний повторил те слова, которые я от него уже слышал.
Потом тот же вопрос был задан тем, кто участвовал в памятном разговоре. Все, как и предполагалось, сказали, что Сидор говорил про «больного» Пашу, но утверждать точно, как дословно, не могут. Дошла очередь до меня. Начиналось самое важное.
- Сидор сказал слова «с понтом больной», - сказал я. - И я это утверждаю. До этого он не предъявлял мне, но высказывал недовольство тем, что я мало уделяю внимание общему, а Паша так вообще на санчасти отморозился.
- А как ты уделяешь внимание, - поинтересовался Щукарь.
Я вопросительно посмотрел на Кикера. Тот кивнул. Я понял это как приглашение сказать приблизительно так, как и было.
- Как могу, - ответил я. – Со свидания вышел, занес на общее сигарет, чая. Нужна была бы помощь какая-то с моей стороны, нет вопросов. Может я чего-то не понимаю или не знаю пока, но мне есть в кем советоваться.
Я имел в виду, конечно же Кикера.
- Но если я еще не стал таким полезным, как некоторые рассчитывали, это все равно им права на моего семейника гнать не дает. Сколько заслуг бы у них самих при этом не было.
После этих моих слов начался небольшой шум. У Сидора тоже была неплохая поддержка. В основном из «товарищей по интересам», тех блатных, которые вместе с ним решали за наркотики с администрацией. А вопрос это был не очень простой и налаженные связи Сидора с некоторыми, одному ему известными прапорами и офицерами, имели очень большое значение. Если бы у него начались проблемы или предположить такой вариант развития событий, что его убрали бы из смотрящих, само собой эти связи прервались бы. Ушло бы время и средства на налаживание новых. Или перевод старых на нового человека. Это бы затруднило или даже на время лишило бы многих возможности регулярно колоться. Что это значило для наркоманов, которыми были «друзья» Сидора, поймет любой, кто имел с наркоманами дело.
За нас с Пашей шумели спортсмены. Их тоже было не так уж и мало. Еще принять нашу сторону были готовы даже некоторые блатные постарше, которые иногда позволяли себе употреблять, но связи у них были свои, от Сидора не зависящие, а он сам по многим причинам в число их друзей не входил.
Через пару минут о сути сказанных и услышанных слов никто и не вспоминал. Присутствующие давно перешли на личности. Так как меня большинство знало плохо, а Сидора очень даже хорошо, со всех сторон, можно сказать, говорили в основном или за, или против него. Вскоре у наркоманов не стало хватать аргументов в его пользу. И дело приближалось к физическим методам решения вопроса. Понятно, что в таком случае победа была бы за спортсменами. Однако противоборствующая сторона по причине нехватки физической силы могла бы использовать какие-то подручные средства. Не обошлось бы без элементарной поножовщины.
Трупы или раненные в планы Щукаря не входили. Он не так давно стал положенцем и начинать с такого не хотел. Это бы ему плюсом не стало. Поэтому он прекратил поднявшийся шум. В его пользу скажу, что без крика. Уважением он пользовался уже тогда. Под предлогом того, что ему нужно выяснить один не очень понятный вопрос с Кикером лично, удалился с ним в соседнее помещение.
Соседняя комната, вход в которую был прямо из шурши, предназначалась для хранения сумок осужденных. Закрывалась она на ключ. Однако кроме баулов там находился стол, за котором ели смотрящий с семейниками. Это была, так сказать, святая святых братвы отряда. Очень характерно то, что все свое свободное время они проводили именно там, рядом с материальными ценностями всех числящихся на отряде зеков. Они там не только завтракали, обедали и ужинали, но и при наличии наркоты, кололись. Комнату эту практически никогда не шманали. Если шаровые докладывали о том, что на отряд идут мусора, «баульная» сразу закрывалась. Ключа, якобы, не было. А обыскивать её мог только кто-то из работников оперчасти в присутствии начальника отряда и завхоза.
В это малой шурше Щукарь с Кикером пробыли пару минут. За это время страсти немного поулеглись, так как всем присутствующим было ясно. Как эти между собой вдвоем решат, так и будет. По виду Сидора было видно, что и он стал чувствовать себя неуютно.
Открылась дверь, из комнатки выглянул Кикер и позвал меня. Я зашел туда, закрыл за собой дверь. Щукарь без особых предисловий сказал:
- Короче, скажешь, что ты мог ослышаться. Ничего тебе за это не будет, не переживай. Спрашивать с этапника было бы не правильным. А Сидора я знаю. Уверен, что ты не врешь. Но и менять его сейчас я не могу. Тогда и меня самого поменять могут. Есть же еще за забором люди.
Я хотел было возразить, как меня наставлял Кикер, что задней с моей стороны не будет, но сам он сказать мне ничего не дал.
- Санек, все нормально! По другому сейчас не выйдет. Ты молодец, все хорошо сделал. Тебе тут плюс а не минус. То, что ты за семейника мазу тянул. Но чтобы проблем лишних не было, скажешь так, как Саня говорит.
Вернувшись, Щукарь опять обратился ко всем.
- Тут, - говорит, - пацан хочет уточнить кое-что. Давайте послушаем.
- Говори, - обратился он ко мне.
- Пацаны, - сказал я. – Допускаю, что мог и не совсем точно услышать, что было сказано. Может тон разговора меня сбил. Уж больно Сидор недовольным голосом высказывался.
Эти сказанные слова многих развеселили и сняли напряжение. «Да, - послышались с разных сторон фразы, - Сидор вообще довольным тоном говорить не умеет. А пацанчику конечно, что угодно могло показаться. С непривычки. Но молодец, что не зассал. За семейника любой должен мазу тянуть!»
Инцидент на этом был практически исчерпан. Однако руки друг другу Сидору мы жать не стали. Да никто и не предлагал. Хоть в этот раз все вроде и решилось миром, но все понимали, что продолжение последует по-любому. А пацаны с отряда прекрасно помнили, что помимо слов Сидора обо мне и тех, что относились к Паше, я в свою очередь его терпилой фактически назвал. И будучи с ним хорошо знакомым, были уверены, что если сейчас мне пока повезло, проблемы мои только начинаются.
Сходка на этом закончилась. Дальнейшая жизнь отряда опять была в руках удержавшего свое место смотрящего. И первым делом, после того, как все порасходились по отрядам и на санчасть, Сидор пригласил меня к себе и сказал:
- Ладно. Пока пусть так будет. Повезло тебе. Не надолго. А сейчас, мотай свою вату и езжай во вторую хату. В первую я тебя поселить не могу, но и у себя держать не намерен. На хрена мне интриганы. И хоть тебя пока не определили, я это запомнил. Ты теперь по отряду ходить будешь бояться. Я тебе обещаю.
Наутро я, как обычно, был на санчасти.
- Знаю, - сказал Витя, - вторая хата. Последняя перед первой.
Это имело определенный смысл. В кубрике № 2 жили мужики, которые по тем или иным причинам недотягивали до братвы. Или были когда-то рядом с ней, но надежд не оправдали. Почти как я. В случае возникновения у живущего во второй хате еще каких то проблем, как говорили «боков», братва уже не собиралась. Все легко и просто решал смотрящий. И следующая хата была первая. Тряпки, ведра, шары.
- Но ты, - продолжил он, - не переживай особо. Там нормальные люди живут (он не назвал их пацанами). Познакомишься. А с нами как общался, так и будешь. Мы от своих не отворачиваемся.
Звучало обнадеживающе. Но и только, что звучало. Фактически, хоть и озвучивалось то, что проблем никаких нет, отношение менялось на глазах. Находиться в очень близких отношениях с жильцом хаты, в которой живут одни «бокорезы» для порядочного пацана было не совсем к лицу.
Моя новая комната «общаковой» явно не являлась. Пола с подогревом, двойных стекол в оконной раме, обоев на стенах тут не было. Но и от первой она тоже отличалась. Это было что-то среднее. На стенах была побелка с какими-то нарисованными узорами, из окон почти не сквозило, имелись шторы, тюль, но встроенных шкафов, антресолей не было. Сравнительно чисто. Но дезодорантом не пахло. Обычный запах зековских вещей, в которых они ходят на работу, переодевают на отряде и раз в неделю стирают.
Все мои новые соседи были довольно любопытны.
Петруха, мужик лет 35-ти, откуда-то с Ровенской области или даже из самого Ровно. Он работал в бригаде, которая делала ремонты на жилой зоне колонии. Впоследствии он стал её бригадиром. А еще позже завхозом одного из отрядов.
Франек, ровенский таксист, уже в возрасте далеко за сорок. Проблемой которого были азартные игры. Он регулярно проигрывал в карты или нарды суммы в пределах сотни долларов. Отдавал с передач, привозимых ему то ли женой, то ли мамкой. Часто бывало такое, что передачи задерживались, сроки проходили и смотрящему отряда приходилось решать с кредиторами Франека вопросы об отсрочке платежей. Объявлять его «фуфлыжником», как, я предполагал, должно быть в таких случаях, никто не стремился. Это было не выгодно. Сидор, или Косой в отсутствие последнего, за помощь любившему поиграть и не успевающему рассчитаться человеку, получали взносы в общак. Сумма в таких случаях была не меньше половины от той, за которую приходилось договариваться. Получалось, что счетчик включался, а средства по нему уходили в нужном направлении.
Третьим жильцом был семейник Франека и Петрухи, Сергей. Наполовину армянин, наполовину хохол, из-за чего о том, что зовут его Сергей я узнал не сразу и случайно. Все называли его Ара. Ему тоже было не меньше тридцати, по образу жизни и недостаткам он от Франека не отличался. Только с долгами рассчитывался с большим трудом, так как кроме старенькой мамки, приезжавшей раз в пол года, передачи возить ему было некому. Из-за этого смотрящий регулярно запрещал Аре играть под интерес, а за нарушение запрета тот рисковал оказаться в хате по соседству.
Еще в кубрике жили два парня, где-то моего возраста, с диагностированной ВИЧ-инфекцией. В виде конкретной болезни, СПИДа, она пока не проявлялась ни у кого из них. Один не курил, обливался холодной водой по системе Иванова и пытался вести здоровый образ жизни. Второй хоть и курил, но больше ничем не злоупотреблял. Эти двое были вполне нормальными пацанами. Общаясь с ними я даже и не задумывался о том, опасно или нет жить с ними в одной хате, пить вместе чай пользоваться одними вещами. Иногда или один, или другой ложились на профилактику на санчасть и в хате становилось на человека меньше.
Спидники на промку не ходили. Франек с Арой через раз. Это были частые посетители санчасти. Петруха работал, зарабатывал характеристику на льготы.
То, что я после хаты, в которой жили блатные и один полезный и поэтому порядочный мужик, переехал к без пяти минут козлу, двум почти фуфлыжникам и зекам, от которых по общему мнению запросто можно было заразиться СПИДом, меня особенно не огорчило. Сидор, по всему ожидавший, что я сразу впаду в депрессию, ошибся и на этот раз. Продолжил он с другой стороны.
Где-то через неделю после моего переезда из одной хаты в другую, если смотреть на план отряда, противоположную, появился отрядник. Я, понятное дело, на промку так и не ходил. «Обуви не было» по прежнему. Мыкытовыч, пообщавшись с завхозом и совершая обход отряда, очень удивился. Когда увидел меня на верхней наре справа от входа во второй кубрик.
- Ого! Шемарулин, что, ты здесь уже? – спросил он.
Я как раз спал. За окном из громкоговорителя, находившегося на крыше столовой, играл марш. Его включали на сорок пять минут, во время которых осужденные выходили на работу.
Ответа от меня отрядник ждать не стал. Он пошел выяснять причину моего переезда из первых рук. Через некоторое время он вернулся.
- Вставай, - говорит, - пойдем ботинки получать.
Если до того момента я еще питал какие-то иллюзии насчет отношений блатных с мусорами, то тут они у меня уже исчезли почти все. Как только смотрящий решил, что сидеть без работы, «отдыхать», я не достоин, так и начальник отряда пересмотрел свой взгляд на этот вопрос.
Обувь мне выдали быстро. Хоть она была и не совсем моего размера, для отчета вполне годилась. Как и для основания на следующий день спросить меня «почему не работе?».
Пришлось опять идти во второй цех. Правда, ненадолго.
Петруха, строитель, как и многие на отряде, Витю Кикера знал и уважал. Сидора знал, уважать приходилось, но поддерживать его политику желания не имел. Даже наоборот. Поэтому, еще через пару недель, в разговоре со мной он поинтересовался. Как я смотрю на то, что он познакомит меня с бригадиром своей бригады и её мастером (вольнонаемным начальником) для того, чтобы мне к ним зачислиться, платить те же 10 долларов в месяц и опять же на промку не выходить. Плюсом было еще то, что я мог бы поначалу вместе с Петей, а потом и сам свободно передвигаться по жилой зоне. При желании приходить к ним на объекты, там или помогать, или нет. При его отсутствии, сидеть на отряде и не ходить никуда. Предъявить то, что я не работаю без разрешения на то смотрящего никто бы не смог. Так как знать, есть ли работа у бригады и у меня лично может только бригадир и мастер. Которым я и платил бы.
Само собой, первый, с кем я по этому поводу советовался, был опять Кикер. На этот раз, он не стал меня отговаривать. Несмотря на то, что быть в бригаде ремонтных рабочих и строить колонию не являлось достойным для порядочного пацана занятием, мало того, даже предполагало ставку
- А что, - говорит, - иди, договаривайся. Классное место. По жилзоне зеленая, делать ничего не надо, сиди, балдей!
Терять мне было особенно нечего, с блатными я все равно общего языка не нашел, поэтому посчитал, что Витя опять печется о моем благе. Что было у него в планах, я узнал немного позже.
На следующий день Петруха привел меня на объект, который строила его бригада. Им как раз было здание санчасти, на которой я лежал зимой. Это помещение переделывали под комнаты для длительных свиданий. Санитарная часть к этому моменту переехала туда, куда меня приглашал с карантина замполит, чтобы в моем присутствии вписать в карту учета первое взыскание. За нарушение локального режима.
Бригадиром оказался мужик средних лет, обычный работяга. Мастером – местный житель, немного моложе зека-бригадира, но такой же любитель бухнуть. Мои 10 долларов в месяц, по 5 на человека, были для них совсем не лишними.
Надо сказать, что в бригаде имелось ограниченное таких число вакансий. По разнарядке в ней числилось около 12 человек. Работало пятеро, включая самого бугра. Семеро приносили доход в виде наличных денег. Один из таких плательщиков за пару дней до того освободился, что дало мне возможность очередной раз отпетлять от промки. Уже таким образом.
Своего обещания в конце концов загнать меня в первую хату к чертям и крысам Сидору сдержать не удалось. Через некоторое время после памятной сходки его опять посадили в ПКТ, откуда он уже так и не вышел. Через некоторое время состоялся суд, на котором его приговорили к смене режима и свезли на крытую. Опять вернулся он в колонию через три года, но к тому моменту срок его подходил к концу и я с ним уже не пересекался.
В этом плане мне повезло из-за того, что хотя новый положенец не мог поменять смотрящего 10-го отряда как принято у братвы, предъявив ему тот или иной «бок», убрать его с лагеря при помощи администрации было даже очень по силам. А необходимость от него избавиться назрела по той же причине, по которой произошел тарелочный бунт, по которой регулярно случались разные разборки между блатными. Сидор набирал авторитет и мог в скором будущем составить угрозу для Щукаря.
Однако первое время я удивлялся. Как же так, вроде бы у блатных решены вопросы с промкой, с режимом, администрация знает, что они не работают, в режимных мероприятиях типа завтрака, обеда и ужина не участвуют. Рапорта на них не пишут. Взысканий не накладывают. За что же их закрывать в ШИЗО, ПКТ. Объяснения по этому поводу, которые мне приводил Кикер, сводились к тому, что это делается для поддержания авторитета. Вроде как любой блатной должен некоторое время находиться на яме. Страдать. Но даже оттуда смотрящий отряда знает все, что происходит на отряде, фактически решает все вопросы так же, как если бы он находился на месте.
Так оно вроде бы и было. Но почему же их рано или поздно свозили в тюрьму, как злостных нарушителей режима. Тоже ради блатной карьеры? И в итоге я сделал вывод, что высшее начальство лагеря со стороны администрации в лице хозяина и со стороны черной масти в лице положенца, регулярно советуются между собой и вырабатывают политику. Тогда же и решается, кто способствует порядку и спокойной жизни, кто нет. Того кто может представлять потенциальную угрозу существующему положению дел, рано или поздно с лагеря увозят.
Именно под эту волну попал и Сидор. Многие черты его характера и гипертрофированное самомнение не добавляли стабильности в лагерную жизнь. А в ней он участвовал очень активно. Буквально через неделю после истории со мной и с Пашей, он предъявил своему семейнику Косому крысятничество из общака отряда. Якобы пока Сидор сидел на БУРе, Косой не все средства поступающие от мужиков использовал так, как требовалось. Или наркоту покупал дороже, чем должен был, или слишком много на сигареты себе тратил. В общем, не все до ямы доходило. И ходил Саша Косой пару дней еще грустнее, чем я в разгар нашего конфликта. Но и для него все закончилось сравнительно благополучно. Он только перестал обедать в той, маленькой шурше, а начал в общей пищевке отряда. Там, правда, для по прежнему порядочных пацанов тоже отдельный стол стоял.
После Косого Сидор поссорился с кем-то из смотрящих других двух отрядов трехэтажки. Тоже были какие-то сходняки, какие-то рамсы. Закончилось все в итоге тем, о чем я написал. Закрыли и потом свезли.
Если бы не шум, поднятый в начале года при помощи тарелок, может с Сидором бы не церемонились. Определили бы через санчасть. Но на разборки при помощи физической силы, вероятно, был тоже какой-то лимит. И превышать его не мог ни хозяин, ни положенец. Тем не менее, такой план в том году был перевыполнен помимо их воли.
Одно событие произошло летом. На 7-м отряде. Обычного мужика обвинили в крысятничестве. Якобы он украл с веревки для сушки белья (такая была натянута в каждой локалке) принадлежащие кому-то из блатных носки. Брал он их действительно или нет, а если и так, то по какой причине, перепутал со своими такими же или на самом деле присвоить хотел, сказать сложно. Но ему устроили такой допрос с пристрастием, что он не смог его пережить.
По тому, что я тогда узнал из первых рук, от непосредственных участников сходки 7-го отряда по этому поводу, обвиняемый никак не хотел признавать свою вину. Не соглашался становиться крысой. Его стали бить. И убили. За носки! Само собой, по поводу убийства было возбуждено уголовное дело, приезжали следователи прокуратуры, вели расследование. Трех участников такого спроса по понятиям судили и добавили им срока, как говорят на зоне в таких случаях, доболтали. Одному 9 лет, двум по 3 года. Характерно, что тот, кому добавили 6 лет уже почти заканчивал отбывать свой первый срок. Опять блатнее життя. Не легкое, но интересное.
А закончился тот год довольно таки редким, но весьма поучительным случаем. Трагичным для некоторых блатных.
Как уже ясно из моего повествования, среди жуликов были наркоманы и спортсмены. Но для мужиков вторые были ничем не лучше первых. Если нарики тратили почти все поступающие средства на наркотики, то качки их просто съедали. Но при этом утверждалось, что все, что заносит мужик на общее идет по назначению. В качестве гревов на яму, санчасть, этапку.
Спортсмены руководили на 3-м отряде. Его смотрящий со своими семейниками увлекались культуризмом. Тогда для таких занятий были все условия. В каждой локалке стояли штанги, тренажеры, сделанные зеками в инструментальном цеху. У желающих имелись свои гантели. Заниматься в «спортгородке» мог любой зек (кроме петухов, чертей и крыс конечно же). Но среднему мужику было тяжело посвятить себя занятиям физкультурой, так как силы и время забирала работа на промзоне. А если бы они и оставались, доступное питание спорту не способствовало. Действительно, накачаться на водянистой каше и супе почти без картошки, не говоря о мясе, практически невозможно.
Поэтому штанги, гантели и тренажеры были заняты в основном блатными и теми, чьи средства позволяли нормально питаться и не ходить на работу. Многие мужики третьего отряда, где произошла эта история знали, а если нет, то точно догадывались о том, что пацаны здоровеют за их счет. Но так было установлено давно и никто возмущаться этой системой не думал. До определенного события.
У одного зека по прозвищу Копейка был распространенный недостаток. Любовь к азартным играм. Он тоже регулярно проигрывал, но рассчитывался вовремя. К нему приезжали регулярно. Как-то раз, будучи еще на свидании, он передал на отряд свои сумки. Получить их должен был кто-то из семейников смотрящего, взять оттуда причитающийся долг, остальное не трогать до выхода Копейки с длительного.
Пацаны, однако, за двое суток, пока тот общался с женой, успели съесть все продукты с его передачи, оставив килограмм печенья и пачку чая. Понятно, что вышедший со свидания сразу возмутился. Налицо было натуральное крысятничество. Однако так оно и называлось бы, будь все передано на кого-то из мужиков. Даже на семейника Копейки. А смотрящий в этих вопросах всегда прав. Мужику быстро обосновали, что вся его передача еле-еле покрывала сумму долга, а то, что взяли сверх него – оплата расходов по выносу на отряд. Фактически же, и Копейка прекрасно это подсчитал, стоимость привезенного женой была в несколько раз больше проигранного.
Жаловаться было некому. Положенец редко вмешивается в такие вопросы. И в этот раз он ответил, что у него нет оснований что-либо предъявлять смотрящему третьего отряда. Что пацанам не по понятиям считаться за какие-то пару долларов. Не общаковых.
Кто-то другой оставил бы все так как есть. Признал бы себя лохом и жил спокойно дальше. Но Копейка оказался не из таких. Он не захотел, чтобы лагерные блатные качки безнаказанно питались тем, что с огромным трудом зарабатывает жена. Собрав близких мужиков, он обрисовал им ситуацию и задал несколько вопросов. Главный из которых был такой: сколько еще можно терпеть это крысятничество со стороны блатных. Однако, чтобы с ними разобраться по-мужицки, требовались какие-то видимые доказательства и основания.
Предложен был такой вариант. Следующий, кто вышел со свидания и собирался заносить, как положено, грева на общее, должен был пометить консервы. Для того, чтобы узнать точно, куда они потом уходят. Туда, куда декларируется или блатным на ужин. Как и следовало ожидать, после того, как пацаны позанимались и плотно поели, помеченные банки из-под тушенки и сгущенного молока были вынесены их конем в мусорник. Доказательства были получены. Надо было действовать.
Смотрящий и его близкие качались не зря. Каждый из них был достаточно здоров, а двое выглядели так, что их можно было фотографировать на обложку журнала для культуристов. Конечно, не все вообще жулики той локалки были спортсменами. Как и везде имелись пацаны и поменьше, болезненного вида. Всего блатных на отрядах 3-6 было человек 12. Мужиков, конечно же, гораздо больше. Только тех, кто собрался действительно наказать «черную масть» не меньше 20. Правда все они были совершенно не спортивного вида.
Поэтому, вооружившись грифами от тех самых штанг и гантелями, которыми занимались смотрящий с семейниками, мужики в главе с Копейкой отправились к шурше. Заходить туда не стали. Спрашивать там – дело тех, с кого предстояло спросить. Первого же вышедшего из двери спортсмена оглушили, ударив по голове гантелей. Оставшиеся в помещении поняли, что случилось и почему. Сразу закрыли дверь. Но это помогло ненадолго. При помощи грифа она была выбита достаточно быстро. Смотрящий выпрыгнул из окна второго этажа. Его здоровый семейник не успел и попал в мясорубку, устроенную ему ворвавшимися в шуршу мужиками. Один или два блатных смогли выскочить из помещения, сбежать по лестнице в локалку, но там их все-таки догнали.
На первом этаже произошло почти то же самое. Мужики оказались настолько злы на блатных, что стоило только начать. Потом рассказывали, что кто-то из «порядочных» звал милицию на помощь, кто-то залез на забор локалки и не хотел слазить еще и тогда, когда все закончилось. А закончилось тем, что трех любителей мужицкой тушенки, самых здоровых на всем лагере блатных, смотрящего 3-го отряда и его двух семейников, отвезли в больницу соседнего города с тяжкими телесными повреждениями, в виде разбитых голов, поломанных рук и ног. Еще семь или восемь представителей их масти следующие два месяца провели на санчасти. После чего были переведены на другие отряды.
Конечно, такое событие не могло не иметь реакции со стороны администрации. Непосредственных участников событий с обоих сторон сначала посадили в ПКТ, кого на сколько. Копейку и нескольких смотрящих отрядов, не только 3-го, вскоре свезли на крытую. На три года. Вместе с ними уехал и положенец, Щукарь. Вероятно для того, чтобы набираться опыта. Ведь первый год его «положения» принес слишком много происшествий, разборок и даже смертей.